Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
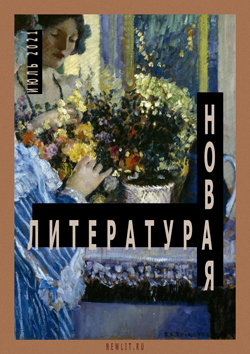 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 3. 3 4. 4 5. 5 4
Самым страшным в отношениях с пациентами было, когда они предавали, сдаваясь, зачёркивая всё, весь пройденный тягостный путь, напрочь всё отрубая. Она, карабкаясь и спотыкаясь, к водопою лошадь тащила, а та, дойдя, пить не могла, не хотела. Раньше, когда случалось, жаловалась полковнику. Выслушивал молча, внимательно, не перебивая, вопросов не задавая, а когда замолкала, без единого звука к себе прижимал и долго-долго гладил по голове, бессловесно мурлыча, пока не засыпала. Ему она не жаловалась ни на что. То ли предавать перестали, то ли свыклась, то ли жалела его, особенно во время и сразу после телевизионных мытарств. Не жаловалась, и всё. Все годы жизни с полковником была рядом с войной, неслышной, невидимой, очень к ней близко, и всё же его стараниями, прочертившего невидимую, но очень чёткую черту, всё-таки вне. Волны от страха доплёскивались, но самого безотчётного, присущего каждому, тем более врачу, да ещё в отделении, за глаза называемом отделением смертников. Если бы такое название услышала своими ушами, то сперва привела бы статистику за последние лет десять, а потом бы голову, чей рот смел произнести, голову эту бы оторвала. Пусть хирурги от аппендицитов своих оторвутся: не каждый может голову оторвать, не каждый умеет пришить.
Своим делом он считал прозу. Его настоящие герои, его и только его, не имели ни прошлого, ни будущего, приходили ниоткуда и в никуда уходили. Читателю интересны – додумает. Телевизору, куда некоторые в поисках хлеба насущного попадали, они, с одной стороны, своей неожиданной яркостью импонировали, с другой, как там выражались, в формат не влезали. Чтобы влезли, своеобычность не потеряв, их надо было основательно обкорнать, добавив штрихи из прошлого и на будущее намекнуть. Квадратура круга. Как это сделать, в телевизоре не знали и знать не могли. Для этого со всеми словами, мыслями и идеями на корню его покупали: давай, брат-гений, твори! Вот и творил, чем больше получалось, чем удачней удавалось несовместимое совместить, с допустимой долею приблизительности квадратуру круга всё-таки вычислить, тем больше палок в колёса вставляли, делая рамки всё уже, прокрустовым иезуитством усилия в сизифов труд превращали. Но был предел. Как гласит китайская пословица, им самим и придуманная: сколько палкой по пяткам не бей, всё равно в голове мозгов не прибавится. Телевизор кормил, а он неблагодарно мечтал позволить себе укусить кормящую руку. За что? За то, что его героев калечил, подгоняя под желанные публике обстоятельства, втискивая в привычные ей сюжеты. Публика всегда ведь права, особенно после рабочего дня и сытного ужина. Ему эти сюжеты были противны. Сколько их? Десяток-другой, и обчёлся. А людей, из которых его герои рождались? Словно песка в родимой пустыне. Режиссёры его текст ненавидели, полагая, что их герои (уже не его) должны изъясняться словами, пусть глуповатыми, но понятными и немного смешными. Чёрт с ними, пусть бы сами корёжили, но те иезуитски этого требовали от него. Были редкие и недолгие периоды лёгкой вменяемости, когда, не дёргаясь, не рисуясь, можно было спокойно всё обсудить. У актёров таких периодов не было, тем более у актёрок, озабоченных лишь одним: повыразительней, подоступней смазливость зазывную перенести на экран, чему его слова очень мешали. Начитавшись второсортных психологов, напосещавшись психотерапевтов и аналитиков, они донимали идиотскими готовыми схемами отношений: родители-дети, любовник-любовница и прочее во множестве и разнообразии вопиющем, требуя, чтобы слова, даже самые простые и абсолютно невинные, в эти схемы укладывались. Хорошо, если актёры с актёрками одну и ту же книжку читали. Ужас, когда разные попадались. Крайним, конечно, был он. Однако и режиссёру перепадало. Но всё было по-честному. Никто подвывать стае его не неволил. Многие понимали, это занятие его угнетает. Что поделаешь? Писателю и раньше, когда книги читали, на гонорары невозможно было прожить. Сейчас, брат, тем более. Скажи спасибо, хоть в телевизоре платят. Налог государству отсчитываешь? Считай, и это налог, ха-ха-ха, на твою малодоступную обычным мозгам великолепную прозу. Налог на гениальность. Согласен? После телевизионной полосы, выматывающей, банковский счёт заряжающей, долго ни слова не мог написать. А когда слова приходили, всё больше тяжёлые, неприкаянные и больные. Писались стихи. Такие, за которые расплачиваются жесточайшею прозой. Стихи выстраивались в мозаичную картину абсурда, сложенную на огромной стене, которую мечталось, разбежавшись, прошибить головой: или рухнет стена, или чёрт с ней, с головой. Вплоть до явления уикендов мозаичная стена являлась с постоянством отнюдь не завидным. Что было поделать? Абсурд непререкаем, ни обожанию, ни обжалованию не подлежит. Как воспоминания. Как сновидения. Чего только не было в этом телефоном варварски прерванном предутреннем сне. Он и она из какого-то подвала бежали, соскользнули с небольшого холма по направлению к дому, в котором в детстве он жил. Преследователи – кто? почему? – за ними. И – звонок, всё исчезло, ни кареты, ни тыквы. До телефона добраться он не успел, чёрт с ним, надо будет, перезвонят, но пока поднимался, за телефоном тянулся, подвал, в котором очутились после видения здания, сложенного из глыб разных форм и конфигураций, исчез. А там, в подвале, всё было, о чём можно подумать, о чём думать не след, о чём подумать вообще невозможно. И были картины, и мелкая пластика, остающиеся, когда какую-нибудь студию или мастерскую ни с того, ни с сего разгоняют: работы законченные и только начатые, в тонах светло-радостных и тёмно-печальных. Были статуэтки зверей и людей – не всегда отличить – форм вычурных, неестественно разнообразных, таких, какие бывают во сне. Затем появились солдаты, мелькнула жизнь потно и душно казарменная, мелькнула – исчезла, сменившись бассейном, в котором огромный медведеподобный мужик плескался с щенятами-пацанятами, которые от него убегали. Куда? В его детство. Он с родителями жил в доме рядом с невысоким холмом. Возвышение было искусственным, насыпным. На нём кинотеатр. На последнем этаже пятиэтажного дома квартира. И это не сон – воспоминание. Между ними связь, проследить которую очень непросто. Никто не сторож ни снам своим, ни воспоминаниям. Пусть знает подсматривающий за собой в замочную скважину: сны и воспоминания не подсудны! Так пусть и запишет на грязных манжетах! Подумав и мысленно записав, услышал непонятные звуки. Прислушался: не из воспоминаний ли, не из сна? Объяснилось просто и прозаично, фантазию оскорбив. Водопровод, обычно спокойный, вдруг занервничал, заурчал, застучал, словно в смежных камерах арестанты познакомиться пожелали, их в полумраке бессловесно играли актёры, ни на что непригодные, активисты актёрского профсоюза, требовавшего, чтобы съёмки начинались с общего кофепития продолжительностью не менее получаса, понятно, оплачиваемого. У неудачников из homo sapiens была привилегия мыслить, которой пользовались они не слишком часто, но очень умело, никогда себе не во вред. Некогда они (от бесталанности или от лени) никчемность свою социальными условиями объясняли: среда заела, вот и топор. Ныне, среду реабилитировав, несостоятельность тяжёлым детством, родительским невниманием оправдывали, недостаточностью или полным отсутствием нежной любви. Так ли, сяк ли, хрен редьки не слаще, но, говорят, оба овоща очень полезны. Ими бы вместо требуемых круасанов кофейные полчаса и заедать. От такого купажа мыслей он сатанел, чертовски тянуло со съёмок сбежать, не с приятелем в бар покалякать, не в ресторан с коллегой о превратностях судьбы пообедать, не в кафе под её капучино с розовым пирожным-безе и свой эспрессо без сахара с девчушкой о прелестях весны потолковать. Не хотелось, не желалось – безутешно рвалось, свернув мозги набекрень, в трактир под неуёмную водку брату какую-нибудь дьявольскую поэму наизусть толковать. Но брата не было, в трактире никогда не бывал, водку он не терпел, виски предпочитая, поэмы не сочинял, так что нигде некому нечего было ему толковать. Телевизионщики пили кофе, он вмести с ними и как бы слегка обособленно, немного поодаль, держа перед собою сценарий, в который согласно контракту должен был по требованию режиссёра вносить изменения, художественному замыслу не противоречащие. Контролёра над замыслом не было. Разве что Господь Бог. Но Он в его отношения с актёрской стаей и её вожаком (хотя у режиссёра с актёрствующими были свои заморочки) не вмешивался. У каждого была своя правда жизни, текущей очень изменчиво, правда, не слишком свойственное ей множественное число обретавшая, и они, множество правд, друг с другой согласовывались весьма и весьма приблизительно. Варясь в адском котле с коллегами по преисподней, он мечтал о своей прекрасной бесконечно голой пустыне, как мечтают матросы, вглядываясь в горизонт, о земле, как мечтают солдаты о бабе, как выздороветь мечтают больные, одним словом, как люди мечтают о рае. И – чудо! – съёмки заканчивались. Внезапно возлюбив, друг друга все поздравляли, пластмассовые стаканчики, того недостойные, наполнялись приличным вином; обнимались и целовались, отскрёбывая обиды и оскорбления, их душ недостойные, очищая их для недостойностей новых, в их профессии неизбежных.
* * * Продлись, мгновенье, не остановись, Бездонность полую надеждой заполняя, С самим собой змеёй соединись, Измерив мир от ада и до рая.
В книге были приведены все даты происходящего. Год был не случайный, год рождения отца, и он читал, будто узнавал, чему младенцем тот был свидетель. Видел, слышал, но по младенчеству ничего не запомнил. Виденное-слышанное на жизнь его повлияло? Или прошло незаметно, не затронув, в дорожной пыли затерявшись? Придорожные кафе, привокзальные забегаловки, прибрежные рестораны. Он читал, а ночные бабочки бились в стекло с поразительной настойчивостью самоубийц. Повторяя путь homo sapiens, он прошёл путь от дикой охоты за словом, полной неожиданных удач и горьких разочарований, от собирательства, что бог пошлёт, до осмысленного взращивания диковинных лексем и странных созвучий, которыми одни восхищались и возмущались другие. Поначалу первых любил, вторых ненавидел, со временем и любовь и ненависть поостыли, подогретое вкус изначальный неизбежно теряет, обретая вторичность, унижающую оригинал. Повзрослев и познав вкус не уловленной истины, перестав бросаться за каждым звуком, сдуру божественным показавшимся, однажды – и на старуху бывает проруха – после бесконечной ночи, алкогольной и сексуальной, изнемогая, увидел истину, на кончике хвоста, светящегося в полумраке, мелькнувшую. Падая, в кровь себя раздирая, бездумно ринулся вслед и – дуракам несомненное счастье – догнал, сподобился, ухватил, решив по-настоящему – утро вечера мудреней – на свежую голову разобраться. Оказалось бес – далёкий измельчавший потомок великих – попутал, за ним, и гонялся. Униженный и оскорблённый гнусным отродьем, с горя заплакал, отплакавшись, выпил крепкого чаю и, не сложившуюся реальность сменив на другую, закружился над отвергнутой бережно, блюзово, бирюзово, вертолётно завертелся над покойницей дорогой, которую в лоб напоследок не поцелуешь, в последний путь не проводишь. Распирало: вытряхнуть, вывернуть наизнанку, разрезать и наново иначе сложить, прорехи, дыры какие есть не скрывая, выставляя – миру Божьему и граду Китежу: кто крепче полюбит, того сильней возненавидит, чтобы кипели котлы и страсти, чтобы смола со стены лилась на город штурмующих, добывающих добро и женщин; увы, трупы не встанут, меча на варваров не поднимут – руки отрублены. Писал – кровь закипала: отомстить врагу сочинённому, его женщину, в пыли городской наспех познавшему, женщину, сотворённую из его собственной плоти, женщину, каждой буквой в которую проникал, смиряя желание неуёмное, которое даже смерть её от варварского ножа унять не могла. Сочинить другую? Или мёртвой верным остаться? Метался курицей с оторванной головой, ища то, чего не мог и представить. С кем о таком поговоришь? С кем этим поделишься? Всяких сборищ, обсуждений, дискуссий старательно избегал. А если случалось, шёл напролом, носорожисто, упрямо, угрюмо. Потому не очень и звали. Таким уродился: всякая общность людская выдавливала, как тело живое, воды не нахлебавшееся. Всё было не как у людей: друзья не друзья, враги не враги. Страдал: не для всего есть слова, не для каждого слова существует понятие. Это было невероятно, невнятно, никак невозможно. Но реальность, в которой пребывал, ничего иного предложить не могла, а уходить в иную ещё не смел, не умея различать оттенки звучания ветра, потому уикендов и не заслуживал. От бессилия бегал по улицам с оторванной головой, распугивая прохожих, взгляды любопытствующей мелкошпанистой пацанвы, как магнитом, притягивая. Ничего не поделаешь, если бегаешь с оторванной головой набекрень, к подобным взглядам быть надо готовым. Но – время лечит, врачуя, новые силы вдыхает, ветром над прахом земным воздымая. В ту славную далёкую пору сам не знал, чего хотел, чего он желал. Хотелось, желалось, поминутно меняясь, как-то само собой, без него. И стихи, и подруги уходили, не прощаясь, не здороваясь, приходили. На этом сходство заканчивалось. Стихи оставались в памяти и на бумаге. Подруги – лишь в памяти, со временем лица мутнели, подробности исчезали, из двух-трёх один расплывчатый облик лепился. Иногда ловил память на лжи: знакомился с высокой блондинкой; в постели оказывался с маленькой брюнеткой уютненько голенькой по утрам, как спрут, его охватывающей везде и проникающей всюду плотно зашторенной ночью; переставал звонить за мимолётностью встреч непредставимой. С подругами разбираться без посторонней помощи лет с шестнадцати научился. Что делать со стихами, не знал. В поисках ответа на этот вопрос, в отличие от подруг, его не покидавший, стал непрестанно оглядываться и крутить головой. Из всех известных ему современников голова, словно казиношный переменчивый шарик, остановилась на импозантном осколке ушедшей эпохи, по смерти великих друзей-современников оставшемся ответчиком за поэзию, время от времени, с каждым годом всё реже добавляющим к своим юным шедеврам мрачноватые рассуждения о вырождении поэзии и коротенькие благословения молодым, жуткие мрачности опровергающим. Традиционной тесной связи между подругами и стихами он не сподобился. Ипостаси не пересекались. Лишь в одном случае сокурсница, бывшая от его стихов, по собственному выражению, без ума, долго на него выходившая и волею обстоятельств поздним утром в его постели проснувшаяся, упругая теннисистка, его разбудив и расшевелив, зажмурившись, попросила что-нибудь почитать. Мизансцена запоминалась. Отбросив одеяло – лето было ужасное, даже утром жара невыносимая – лежали голые лицом к лицу, и он божественными звуками щекотал ей щёки и губы, а она, балдея от осуществления заветной мечты, умело играла с его несвоевременным возбуждением. Играла – и доигралась. Музыка сфер зазвучала несколько сбивчиво. Обнаружилось, что одновременно оба занятия никак не возможны. Виной совмещения была, конечно, жара, настолько жуткая, что даже тени за пару секунд на солнце дотла высыхали, а мозги, испаряясь, из черепа лёгким сероватым дымком в сизую небесную муть восходили. За кофе – что бы там ни было ночью, кофе был непременной частью программы – так вот, за кофе стала вслух распутывать цепочку родственников, конец которой уткнулся в великого. Стесняясь – она была голой, это ей как раз не мешало – стала вокруг да около ходить-намекать, что великий, известный женитьбами и разводами, пристрастился – так говорят – к молодым поэтам, сам понимаешь. Тогда об этом говорить прямо было не принято, тем более молодым воспитанным девушкам. Им вообще было не положено знать, во что на старости бурно пронёсшихся лет впал кумир их родителей. Были древнегреческие пристрастия осколка великой новой эпохи правдой или вымыслом ненавистников, остаётся загадкой, которую в меру личной заинтересованности нынче, ничуть не стесняясь, разгадывали литературоведы, попутно занимаясь и поиском ранних текстов, опубликованных под разными псевдонимами, со рвением, однако, несоизмеримым. Зря. В тех текстах было много всякого разного, в том числе и такого, что старшие великие наверняка сочли бы ложью и клеветой. От них-то и прятался соблазнённый извечной жаждой сыновьей от отцовского тела или же трупа урвать, кусок, какого сподобится, откусить. Прятался за псевдонимами юный гений не зря: что-что, а загрызать наглых волчат матёрые умели прекрасно. Одно слово – ни одна строчка в печати бы не появилась, по крайней мере, до смерти матёрого. Так ли, сяк ли, цепь раскрутилась, туды-сюды прозвонилось, в конце концов, согласившись, назначилось. Идти-не-идти? Осколок великой эпохи вступил в пору жизни, когда жемчужиной в уксусе в собственной немощи растворялся. К тому же слухи, предупреждения с разных сторон. Всяк предупреждавший говорил голоском тоненьким, тоном похабненьким. Поразмышлял-поразмышлял, да и плюнул. Таким способом тогда многие непонятности разрешал. Множество раз сокрушался, что разучился. Жил корифей в старом доме без лифта на пешеходной улице, с раннего утра до глубокой ночи, в дождливую погоду немного поменьше, напоминавшей то карнавал венецианско-бразильский, то пьяный сумасшедший дом на прогулке. Нормальный человек в таком бедламе жить не способен. Он, однако, там жил, хотя, продав своё наследственное не слишком обширное лежбище, мог бы купить несколько разных квартир в разных местах – из одной в другую переезжать в поисках вдохновения. Или – огромный дом на окраине. Или – дворец за городом, к примеру, на границе с пустыней, или у дороги, змеино вьющейся в гору. Последний из могикан, из времён, когда делали чаще всего не слишком удачно любовь, а не войну, не молодой уже, не слишком старый ещё, дверь открыл сам, всклокоченный и мохнатый. Патрицианским жестом пригласил узким, всякой рухлядью заставленным коридором мимо открытой двери, сквозь которую была видна неприбранная кровать, пройти в комнату, хаотично набитую старой мебелью, криво висящими картинами, и прочее в том же духе до невозможности. Выбрасывая очередную вещь, без которой, как, не всегда верно полагал, мог вполне обойтись, обязательно вспоминал обилие ненужностей, от которого последний из могикан не только не страдал, но жизнь не представлял. Человек совершенно нищего времени, расставаться с вещами бедламно могиканствующий не смел, не умел, подобно тому, как человек сумасшедшего времени не умеет, не смеет даже с малой толикой нормальности расставаться, в самом отчаянно диком бреду отыскивая крупицы мысли холодной и трезвой. В дальнем углу, у балконной двери стоял крошечный столик, на нём огромная пепельница, рядом коробка сигар и спички – громадная декоративная коробка, край которой со столика свисал угрожающе: когда усаживались, мэтр задел столик и коробка свалилась, на что тот заметил восторженно: – Упс, – и добавил, – благодарю, юноша, за визит, я, знаете, нынче с покойниками всё больше общаюсь, вы ещё вроде живой, так что будете исключением. Столик был занят, и папочку со стихами он на пол устроил, посередине между креслами, своим и могиканским. Великий был похож на старого, в отличие от львицы, гривасто пузатого льва в потёртом халате, настораживающем, как оказалось, напрасно. Пояс халата свисал львиным хвостом растрёпанно и тоскливо. Лев отрезал кончик сигары и закурил, пустил клуб дыма – всё молча – и произнёс нечто похожее на приглашение почитать. Звуки могикановой речи с клубами сигарного дыма смешавшись, повергли в ступор, но через минуту, после того как, испугав, мэтр, полулёжа поместил себя в кресло, запахнул на ногах по-львиному волосатых халат и жестом спасителя облако дыма от него отодвинул, придя в себя, он открыл рот настороженно и несмело. Дальше – проще: стихи изо рта сами без его участия потянулись, и могиканствующий взмахивал рукой, разжимая кулак и сжимая, словно вылавливал из строчек слова, как мух, бабочек или стрекоз, и давил их безжалостно и безмолвно. В те далёкие времена линейных повествований и бинарных людей будучи иногда вежливым мальчиком, попросил мэтра и ему из нового прочитать. Поражённый, услышал: – Нового не пишу. – ? – Лучше, чем раньше, не напишу, да и читать новое некому. – Почему? – Еле выдавил. – Читатели перемёрли. А вы не поймёте, для вас мне писать неинтересно. – По-че-му? – Забуксовал от негодования, унижения и чего-то ещё, чему слово не подбиралось. – По-то-му! – В тон. – Потому, что вместе со стихами вашими мои стихи и меня вытесняете из жизни, для начала в историю, а потом... Не обольщайтесь, и вас со временем ждёт та же участь. Ни время, ни люди, никто никого не щадит. А пока… В тебе, пацан, полно разных книг, пока все не напишешь, покоя тебе не дадут, как черти грешнику в аду будут пятки поджаривать. Решительно поднялся, широким жестом халат запахнув, словно скрывая с волосатостью буйной слова, мысли, поступки, которыми, лелея, ни с кем делиться никак не желал. И – икнул на прощание, чего поэт ни при каких обстоятельствах делать не должен. Другое дело – прозаик. Есть люди, стремящиеся к цельности, всеми силами успешно или не очень свои противоречия изживающие или же примиряющие. Последний из могикан напротив противоречия культивировал, обхаживал, ими питался. Через полгода после той достопамятной встречи его хоронили. Людей было немного: то ли не успели оповестить, то ли что-то ещё. Обстоятельства смерти были темны. Одни говорили, повесился (некоторыми мудрыми добавлялось: сплёл удавку из собственных противоречий), другие утверждали, сердце не выдержало (злопыхатели добавляли: виски и кокса). Так закончилась несуразная жизнь несуразного человека, мысли которого со словами существовали отъединённо, крайне редко пересекаясь. Завершая картину своего поколения, он занял в мифе о золотом веке современной поэзии надлежащее место, обозначающее и великолепный взлёт и жестокое вырождение. В момент встречи с последним из могикан будущее над этим измученным жизнью, славой и отчуждением человеком нависало огромной многомиллионнотонной горой, а прошлое пустынной бездной, чёрной и скользкой, от воли его никак не завися, песчано из-под ног ускользало. В бездну смотреть безнаказанно невозможно: обязательно упадёшь. Нельзя много думать о смерти – выдернет из жизни, ни бабки, ни мышки не дожидаясь. Он о смерти мэтра узнал с опозданием: бутылку виски выпил с приятелем. Кокса не было. И не было денег. Долго не было, даже когда стали печатать с колёс, не было вплоть до злосчастного телевизора. Свой он выбросил, когда шёл сериал по его полусерьёзным-полуюмористическим рассказам, написанным шутки ради для освежения головы. Вышел от мэтра – толпа поглотила, закружила, повлекла куда-то наверх, хотя в противоположном направлении идти собирался. Представил себя пускающим дым в лицо парня, читающего стихи, и – затрясло. Барабаны гремели, дуды дудели, галчата галдели, а у него в ушах звучали хрипы, всхлипы и междометия, пытался припомнить, к каким стихам что прилагается. Большинство стихов мэтр не заметил, несколько похвалил, двумя нервно, судорожно восторгался. Во всяком случае, так задним числом отношение гения прочиталось. Успех надо было отметить. Стал листать записную книжку – телефон наводчицы отыскать, с кем праздновать, как не с ней? Не найдя, вызвонил двух приятелей-не-поэтов, и, не сказав о причине ни слова, пригласил отпраздновать день рождения. Явились с бутылками, пили полночи, целый день в себя приходили. Вспоминая, подумал: отпраздновал свой большой настоящий успех мрачновато, что было недобрым предзнаменованием. Наступали времена литературе не то чтоб враждебные – не слишком приветливые. Читатели исчезали, с ними журналы, закрывались издательства, появлялись серии: попадёшь, угадаешь – вперёд, если нет, извини, не формат, желаю удачи. Пока те ещё времена не слишком стремительно наступали, его стали печатать, приняв в сообщество именитых и просто профессионалов (иерархия тщательно соблюдалась) в статусе enfant terrible: всё-таки литераторы, не чиновники, им необходим возбудитель спокойствия, королей видящий голыми, мир об этом оповещающий, он же мальчик для не смертельного битья по совместительству. Получилось, долго себя не искал, сразу выстрелил, и покатилось: не пришлось никем, даже самим собой притворяться. Там, где кончалась поэзия, начиналась для младшего великого пустота, с возрастом муза часто и надолго его покидала, всё острей чувствовал не слишком большую уместность свою в этой жизни, медленно, но верно от него отделяющейся. После смерти великих он, самый юный из поколения, не совсем законный бастард и подкидыш, считался его голосом, несколько запоздалым. Великие восприняли его как младшего сводного брата, самый старший даже как сына, который между блудом и бражничеством инфантильно моцертиански жонглировал стихотворными строками, рифмами не оперёнными: не нужны были, столь твёрдым был стержень, на котором держались слова, доставшиеся от разных эпох и даже народов, словно его язык был тот изначальный, добашенный, довавилонский, единый, на племена не расплескавшийся, от великой реки на речушки и ручейки не разделившийся. Долго, как старшие великие говорили, валял дурака и писал стихи, по прошествии времени вошедшие в самые антологичные антологии. Но в какой-то момент дурака валять перестал, женился на красавице и стихи писать перестал. Может, и не перестал, просто ни с кем не делился, долго жил тихо, не проказливо умер, и был немногочисленными фанатами восторженно похоронен. С ним хоронили эпоху со всеми её фанабериями, с невписываемостью в исторический процесс, выдуманный философами, жаждущими всё со всем связать прочно, порочно, причинно-следственно, что так любо описывать, наслаждаясь логикой нелогичного. Через несколько недель после похорон поколения его подборку, одобренную и снабжённую страничкой неумеренных похвал безвременно усопшего ещё не старого старца, опубликовал ведущий журнал, появиться в котором было заявкой на пропуск в клуб будущих небожителей. В двух стихах без его ведома кое-что из лучших соображений подправили. Возмутился. Советовали успокоиться, не наживать врагов, не успев друзей завести, одним словом, плюнуть и растереть. Но ему не плевалось. Растирать было нечего. Над собой давнопрошедшим, когдатошним легко посмеяться. Только зачем? Лучше над сегодняшним смейтесь. Собаки, выгуливаемые на поводке по краешку мало задетой человеком пустыни, лаяли часто, заливисто, громко, но, как ни всматривайся, каравана, идти продолжающего, увы, не увидишь. Всё в этом доме, из которого не видны были пустынные караваны, в последнее время сломалось, перекосилось, и краны, и двери, и даже пословицы. Всё надо было чинить. Чем быстрее, тем лучше. Приобретая, теряешь, теряя, приобретаешь – замкнутый круг, дурманяще одуряющая бесконечность, капкан причинно-следственных связей, из которого вырваться невозможно, из которого не спастись, хоть лапу отгрызи, хоть что другое.
Как любой коллектив, больничные отделения были гадюшниками разной степени интеллигентности. Их отделение было, как профессор её утверждал, исключением. Во-первых, из-за меня. Во-вторых, градус страданий, а следовательно, и милосердия у нас намного выше общебольничного. В-третьих, и вообще. Самоё тяжкое в умирающих было нарастающее безразличие ко всему, кроме собственной боли, не острой, не резкой, глубокой и долгой, а когда лекарствами подавляли, люди становились абсолютно тупо ко всему безразличны. Приводили детей, внуков, родные, друзья приходили проститься, смотрели на них равнодушно, думая про себя: когда уйдут, в покое оставят. Были безразличны к миру, который после них остаётся, и мир полной взаимностью отвечал. Получалось, один другому они не нужны. Так это или не так, можно узнать лишь самому, доживая, умирая долго, впадая в полное безразличие. А раз человек безразличен, какой вопрос способен его волновать? В очередной раз круг вопросов-и-не-ответов замыкается безнадёжно и безутешно. Палаты навсегда потерявших свободу, похожие на пещеры, были для неё не потусторонней экзальтированной повседневностью, обыденной ежедневностью были эти палаты. Если успевали (обычно с этим не торопились), давали направление в хоспис, к монашкам, жизнь умирающим посвятившим. Она свою жизнь не посвящала: такого слова не было в её лексиконе. Выбрав дорогу, шла, работала, как умела, а умела она хорошо, участвуя в разных научных проектах, которые притягивало к её отделению имя профессора. Эти проекты она продолжала, времени ни на что, кроме спасительных от нелёгкой рутины уикендов, не оставалось. Обстановка домашняя. Умирая долго, покорствуя судьбе, привыкали друг к другу. Было скучно, умирание однообразно. Ему уже приходилось как-то заметить, что умирание – скучное дело. Всё, мысли о смерти прежде всего, надоело до чёртиков. Вот и думаешь: поскорей. Грешно сравнивать, поскорей – словно фанат, задолго до начала торопящийся на стадион, будто от этого матч раньше начнётся. Ещё умеющие говорить перекликались. Ещё умеющие двигаться шаркали навстречу уже разучившимся. Всё, что за стенами палаты, потустороннее. По эту, реальную сторону, понятно, они, по ту – разные инфернальности. Какой с не реального спрос? Клоуны, буратины-коломбины, паяцы сюда не заглядывали. Всем остальным в больнице настроение поднимали, здесь к скопившейся новую толику тоски добавляли. Никто их не выгонял, прямо не говорил (умирающие – люди вежливые), но они, люди не глупые, сами прокрустовость ситуации понимали, своим веселием более податливых яростно донимая. Чувствуя ситуацию, в одних случаях были отважно бережными в словах, в других – нарочито небрежными. Отделение было местом предсмертного всего со всем примирения. К мужьям приходили жёны, к жёнам приходили мужья, которые не виделись после развода полвека. Здесь встречались жёны, любовники, мужья и любовницы, порой за долгую жизнь сменившие статус: с любовницы (любовника) на жену (мужа), и наоборот, что добавляло пикантность в предсмертное примирение. Нередко здесь такая геометрия вычерчивалась, о которой ни Евклид, ни даже Риман с Лобачевским понятия не имели. Треугольники-четырёхугольники были детским геометрическим лепетом. О детях от разных браков и о друзьях, ставших врагами, и снова наоборот, говорить не приходится. Молчали о главном объединявшем. О том, что никакими моющими средствами вымыть не получалось, о том, что никакие освежители воздуха ароматизировать не умели. Однако бывали и исключения, когда о том, о чём не принято, говорили и даже смеялись, друг друга перехохачивая, грохочущими раскатами стремясь чудовище, притаившееся где-то в углу, отпугнуть. На хохот сбегались. Персонал, со смертью давно пообвыкшийся. Приходящие, уходящие, много народу. Хохоту ужасались. Требовали прекратить. А потом, вслушавшись в редкие слова, нелегально пробравшиеся в чумное веселие, сперва подхихикивали, а когда становилось страшно до жути, начинали хохотать, заражая предсмертным весёлым безумием всё отделение, всю больницу, весь город с его горой и пустыней, поветрие по миру разлеталось, и хохотала планета, впервые за всю историю хохотом вызвав землетрясение. Её воцарение ничем, даже повышенным вниманием отмечено не было. Оно было естественным ещё и потому, что с самого появления в отделении, которое мало кто помнил, оценив профессионализм, умной прозвали. Прозвище постепенно исчезло, в целостном облике её растворившись. В этом своей особой заслуги не видела. Рядом с профессором разве что клинический идиот не стал бы подлинным профессионалом. Подражай и учись – вся наука. Поначалу это и выполняла: подражая, училась, лишь спустя время сообразив, что не всё ей подходит, и начала переучиваться. Мэтр заметил и как-то дал знать, что заметил: ухмыльнулся, то ли одобрительно, то ли не очень, умел быть и загадочным. В этом уголке между горой, которую вертолётная площадка больницы венчала, и её ещё прадедовским домом, история уже давно не топталась, ног не давила и рук не ломала, так что можно и нужно было спасать не людей –продлевать жизнь человеку, делая её и в старости, и в болезни если не счастливой, то сносной. Судьба уверенно и безапелляционно диктовала ей биографию, в которой была всё время рядом со смертью: полковник, больные, не только чужие, ей не знакомые, но и соседи подгорного околотка, её с рождения знавшие. Этих лечить было тяжелее всего. Но не передавать же кому-то другому? Самые бесцеремонные из их родных и дома её доставали. Никогда не скрывалась, хотя бывало и отчего. У профессора была интуиция на новые методы и лекарства. Порой, не умея объяснить почему, набрасывался на новое: будем пробовать, осторожно (без этого слова у него ничего не катило), немедленно. К иному относился скептически: подождём, узнаем, что получилось, тогда и у себя заведём. Ошибался редко, но, если случалось, терзаясь, вспоминал ежедневно: mea culpa, старый дурак. Не раз рассказывала о профессоре писателю своему, втайне надеясь, что клюнет, заинтересуется, напишет – не беллетристику, а документальное, non fiction, тем более что и до профессорства за её учителем числились деяния незаурядные: в молодости участвовал в медико-космических программах. Да и родословной обладал запутанно средневековой. Знакомства с умными мира сего были столь обширны и разнообразны, что давали возможность написать интеллектуальную панораму мира последних десятилетий. Писатель переспрашивал, уточнял, но дальше дело не шло: то ли на душу не ложилось, то ли ещё не созрело, не знал, как подступиться, тем более что от медицины инстинктивно отшатывался. Может, её желания не ощущал? Или не воспринимал, как большинство мужчин, понимая только слова? В годы былые они с подругами называли это вербальным мужским тупоумием. Тогда всё было свободно, привольно, почти год – кругосветное путешествие, десятки стран, больших и малых, десятки языков, больших и малых миров. Тогда было во все стороны бесконечно, не то, что теперь: север и юг куда-то исчезли, земля под ногами не в счёт, гора – это запад, пустыня – восток, вот и весь Киплинг наличный, и только бело-голубая или чёрно-звёздная высь таинственно, непознаваемо, непредставляемо бесконечна. В странном русле, в уикенд замирая, текло их раздельно-общее время, от всеобщей истории человечества, которой они сторонились, отчётливо отделённое. Он время своего бытия называл субъективным. По мере накопления уикендов и она начала субъективность времени ощущать, но не своего – была не столь эгоистична – их общего, уикендного, вырезанным ломтём отъединённого от всехнего, от бесконечной бесформенности всеобщего не уловляемого пространства и времени. Он метафорой или чем там ещё способен бесконечное уловить? Хорошо, не небесную бесконечность, проще – пустынную? Спросить? Как бы этот вопрос не оказался последним. С мужиками никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь, когда развеселишь, когда разозлишь. А что имел он в виду, показав ей орла, над пустыней кружащего? Почему-то уверен был, что тот кружит, потерянное гнездо отыскивая, не могла же эта великолепная птица выискивать падаль, которой настоящие, не метафорические орлы, кроме добытой живности, охотно питаются. Ещё был уверен, что орёл окольцован: словлен и отпущен на волю путь птицы в небе следящим. Надо бы ему рассказать, что перед тем, как гнездо с подругой устраивать, орёл брачный танец перед ней исполняет. Понравится – присоединится, вытянет вперёд когти, сцепятся и начнут парой такое в воздухе вытворять, что никакой метафоре уловить не подвластно. Иногда казалось, он вообще плохо её понимает. Как тогда, когда встретили… Она по-прежнему про себя называла его санитаром. Хотя с той поры много воды утекло, но ту жуткую память не смыла. То ли воды было немного, то ли пятно в её памяти было слишком кровавым. Сказала себе: «А каким ещё ему быть?!» Вспоминая, старалась свои прежние расплывчатые, зыбкие ощущения не втискивать в клетку сегодняшних жёстких формулировок, но получалось плохо, без них прошлое расползалось, забиваясь в щели, откуда его невозможно было достать. День был прекрасным: грех сидеть взаперти, они бродили окрестными тропами, которых было не счесть, по некоторым и она, уроженка, никогда не ходила. Набродившись, наговорившись и намолчавшись, возвращаясь, наткнулись. Двое взрослых, двое детей – не только их сладкое весеннее солнце на волю из нор потянуло. Проходили мимо – узнав её, впился взглядом, если бы не это, скорей всего не узнала бы: столько лет, был мало похож на её напарника, санитара на скорой, куда пошла, ещё не слишком думая о медицине. Наткнулась на объявление о добровольцах, приглашавшее студентов и старшеклассников. На курсах и познакомились. Жил недалеко, часто вместе домой возвращались. Курсы два раза в неделю, потом по одному, реже по два раза в неделю дежурили: вместе с водителем-фельдшером ездили на лёгкие вызовы, носили сумку и глупыми вопросами старались не докучать. Бывало, в не слишком приятные ситуации попадали: кровь, полиция, орут, суетятся. Как-то дежурить выпало вместе. Выездов мало: давление, таблетка, полежите, если что, тут же звоните. Или – сердце. Ничего, успокойтесь, кардиограмма совсем не плохая. Давайте на всякий случай подъедем в больницу. Не хотите? Завтра обязательно к кардиологу обратитесь. Береженого Бог бережёт. Будьте здоровы. Благостное дежурство. Поехали вместе домой. От автобуса проводил. Никого дома не было. Проснувшись утром, решили, что в школу сегодня они не пойдут. Но больше их вместе на дежурство не ставили. Ни он, ни она поводов встретиться не нашли: не искали. Так и забылось. Пока через года полтора вдруг прокатилось: ненормальный подросток накануне выпускных экзаменов ни с того, ни с сего всю свою семью: отца-полицейского, мать-медсестру и двух сестрёнок-близняшек – застрелил из отцовского пистолета. Рано утром проснулся, зашёл к родителям в спальню, схватил пистолет, и – начиная с родителей. На себя то ли не хватило патрона, то ли осечка. На выстрелы примчалась полиция, признали нормальным, минимум возможного получил. И – вот. Было от чего затрястись. Пронеслось: глаза, огромно блестящие в миг, когда он входил, и твёрдая попа, прыгающая нервно и суматошно у неё под руками, когда он кончал. Остальное исчезло, оставаясь информацией без эмоций. Поражённая видением из прошлого, резко дёрнулась, схватила писателя за рукав, склонилась, словно за спину прячась, и в следующее мгновение, повернув в обратную сторону, ускоряя шаг, почти на бег перейдя, они неслись домой, несмотря на потрясающе тёплый и солнечный день, настоящее природное ликование: лето, чудо, восторг, фейерверк, а она дрожит, словно ледяной дождь, безумный ветер – все и всё вымокло, а зонты, вывернутые наружу, лежат вдоль дороги, вьющейся в гору.
опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 3. 3 4. 4 5. 5 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Платное планирование беременности: центр планирования беременности. |

