Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
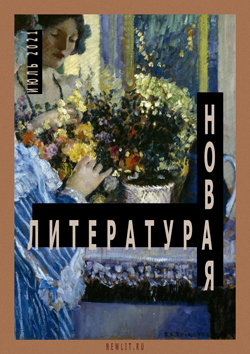 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 2. 2 3. 3 4. 4 3
Пришла мысль: написать текст, героиней которого была бы она. Пришла и ушла. Но вернулась, задержавшись надолго. Отогнал, увлёкшись битвой титанов. Футбол и вправду был интересным. То те, то другие вырывались вперёд, пока не закончилось удивительно мирно. Когда немного остыл, мысль снова мелькнула, но уже засыпал, и отвязалась. Проснулся – снова, по-хозяйски, будто его мозги были местом, куда непременно должна возвращаться. Так ещё несколько дней – кошка с мышкой – играли, не задумываясь, кто преследует, кто убегает. Не знал(а), что с надеждой-тревогой ожидает мгновения, когда скажет в час расставания: «Не уходи». Что ответить? Остаться? От многого придётся ради этого отказаться. Сославшись на что-нибудь, смягчая, сказать: «Не сейчас»? Но это ведь «никогда». Лучше сразу расстаться, избегая неизбежного угасания, а то и разрыва. И у него, и у неё не было уверенности в желанном ответе. Зато была воля: натянуть поводья, с рыси на шаг перейти, хотя уверенности: чем медленней, тем верней, не было вовсе. Оба держали двери открытыми и на вход, и на выход. Были готовы: очередного уикенда не будет. Не будет – продолжение предсказать очень просто. Ей было трудней. Раньше нередко дежурила в выходные. С самого первого уикенда дежурства сами собой отменились, её по этому поводу даже спрашивать перестали, тем более что она эти вопросы решала: до профессора такие мелочи считалось доводить недостойным. Как-то вдруг, ни с того, ни с сего, по крайней мере, так показалось, сказал: «Ты слишком часто смотришь на себя со стороны». Помолчал и добавил: «И слишком пристально». Ничего не ответила, подумав, скорей всего прав. А в конце уикенда, на сей раз пустынного, на восточной окраине, уронил: «При твоей профессии иное, пожалуй, и невозможно». Прекрасно поняла, к чему эти слова относились. И он понял, что сказанное много часов назад прекрасно запомнила. «Похоже, целый день думал об этом», – рассудила и, поцеловав на прощанье, через минуту остановилась на красный, соображая, что это значит, не лепит ли он героиню, отщипывая кусок за куском от неё. Пусть бы и так. Что в этом плохого? Он неё не убудет. Таково ремесло: от всего отколупывать и куда-то там приспосабливать, в слова конвертировав. Она подвернулась – её вместе с домом и садом, профессором и больными. Вся она в его писательской власти. Только память её ему недоступна. Если права, и там потихоньку начнёт нащупывать и отщипывать. Ну и что? Хочет узнать больше о человеке, с которым две ночи в неделю проводит. Плюс дни прилагаются – совсем не последнее. – Как поступить, если начнёт потихоньку прощупывать, – подумала, подъезжая. – Нельзя всё на свете обдумывать наперёд. Захочет – расскажет. Не захочет – улыбнувшись загадочно, промолчит. – Почему загадочно, – спросила себя, удивившись, что темень, ни фонарь, ни светляки не горят. – Потому, – в ответ на скрип двери коварный фонарь у входа вдруг загорелся. Наверняка от уикенда к уикенду он её сочиняет. Потом приезжает к ней или она к нему и проверяет соответствие оригиналу. Интересно, насколько совпадает живая, не сочинённая, с ней, сочиняемой? Как бы дознаться? Зациклившись на безответном вопросе, каждое утро выплывала из сна с этой настойчивой мыслью, ставшей привычной, как чистка зубов или утренний кофе. Эта дикая мысль была ей не то, чтобы приятна, но как-то уютна. Жаль, на неё не было времени. Кофе горячий, глотки маленькие, осторожные, залпом не выпьешь. Ждал недолгий путь в гору, и дальше она не принадлежала не только её сочиняющему, даже себе. Так было с тех пор, когда студенчество началось, не бывшее ни весёлым, ни радостным, но очень ответственным. Надо было выучить то, что может пригодиться, а может и нет, но на что времени в будущей жизни точно не будет. К ней, такой, надо было, затрачивая усилия, приспосабливаться, выискивать время, мало у кого хватало терпения, так что долгоиграющие отношения не случались. Что-либо менять в распорядке, ни для кого не хотела. И никого не нашлось, кто решился свою судьбу к её приспособить. Такие мужики, вообще, чрезвычайная редкость, а парни – тем более. Их отношениям общего прошлого не хватало: глубины, дающей истинное измерение повседневности с неизбежными пустяками, на мелководье из мелких рыбёшек вырастающими в акул, способных любого люто загрызть. Только общее прошлое обеспечивает перетекание изолированных существований. Рассказать что-то из тупой саги больной тех растерзанных лет, отделявших его появление от ухода полковника? Словила себя: так мог бы думать писатель. Неужели они начали друг в друга перетекать? Рассказать о полковнике? Что именно? Как? Может, писателю это полезно, но он ведь не только писатель. Ревновать к мёртвому? А может он вообще ревновать не умеет, даже к живому? Всё. Такой поток мыслей необходимо пресечь. И – делом заняться. Не психоаналитик и не психолог. Тем более что себя анализировать невозможно. А прошлое, которое никого не извиняет и не оправдывает, и впрямь очень важно. Жаль, нарастить искусственно невозможно, как и в пустоте укорениться. Вспомнила, из его окна – вид на пустыню – в ветреный день заметила перекати-поле. Вот так и мы. Остаётся: отставив глупые мысли, жить как живётся, что у людей их склада и возраста как раз хуже всего получается. Как-то не жарким безветренным вечером гуляли в пустыне, между холмиков и редких кустов. Что-то дёрнуло, что-то задело, туда-сюда, тары-бары, сорвались в глупое философствование; такой дикий стих нашёл на обоих. – Кто мои книги читает? Старики, привыкшие портить глаза. Занятие моё бессмысленное и бесполезное, особенно по сравненью с твоим. – Ещё скажи, только патетику не забудь вымочить в белом сухом, что она, то есть я, от смерти спасает. – Разве не так? – Редко. И то не спасаю, чуть-чуть отодвигаю или думаю так, на самом деле, сама отодвигается. – Уничижение паче гордыни. – Тебя и после тебя будут читать. – Добавь: и фильмы смотреть. Дебильные фильмы с дебильными режиссёрами с артистами-дебилами для публики, попкорн жующей дебильно. Долго тогда швырялись словами вместо того, чтобы молча смотреть на закат: солнце садилось стремительно, исчезая в песках, восторженно пропадая. Над ними хищная птица кружила, словно высматривая глупые слова, которые на землю роняли. Уйдут – спикирует, всё до последнего склюет – следа не останется. За ужином болтали долго и глуповато, что было добрым предзнаменованием. Не легли в постель – бросились без единого слова, неутомимо и ласково долго потакали друг другу: не одну ночь были вместе, но так далеко не всегда получалось. Похоже, для этого надо долго глупой болтовнёй развлекаться, на закат внимания не обращая. С его появлением жизнь в пространстве расширилась: кроме дома под горой и больницы на верхушке горы появилась огромность пустыни, на краешке примостились дома, в одном из которых его лежбище (определение в минуты тоскливые), его нора (в минуты паршивые), его гнездо (в минуты спокойные). У неё на всё про всё был один только дом, построенный предками и служивший всем, чем угодно, главное – стержнем, опорой, убежищем, да что там, собственно жизнью. Между узким ущельем (дом и больница над ним) и широкой пустыней (стол с компьютером и огромный закат) был межеумочный червячок: дорога, извивающаяся отсюда туда и обратно. Пустыня и гора оказались слишком друг другу не то, чтоб враждебны, как-то невнятны. Так что извивающийся червячок был очень кстати. Подчиняясь дороге, она, за езду отвыкая от одного образа жизни, привыкала к другому. С полковником этого не было. Он к ней приезжал, на своей квартире у моря не бывал месяцами. Пару раз в жаркие дни её туда привозил. Всё было, как в магазине, новое, чистое, совсем не живое. К тому же море её не прельщало: мокрое не любила. Так что полковник жил в её доме, если его неожиданные приезды-отъезды можно было жизнью назвать: подлинная проходила в месте другом, ей совершенном неведомом. Много раз пыталась представить – фантазии не хватало. На нет не только суда нет, но нет и сил: к чему попусту растрачивать, есть куда приложить. По сравнению с этой просторной, прекрасно обставленной и чистой квартирой, её жильё выглядело запущенным и несуразным, но всё-таки домом, хотя не очень-то настоящим. Для подлинности недоставало детских голосов, шумного обеденного застолья со скатертью и сервировкой, фамильным серебром и, главное, супницей, дымящейся, словно жертвенник посередине стола. А по вечерам после ужина у камина – чтения Стефана Цвейга и Лиона Фейхтвангера вслух, понятное дело, в оригинале. Томаса Манна, оставив снобам, здесь не читали. До Германа Гессе не дожили, а следующее поколение на этом языке ни читать, ни говорить не желало.
* * * Не наигравшись с дьяволом в игру, Не насмеявшись сатанински злобно, Чертовски весело, проснувшись по утру, Продёрнуть нить, а карты передёрнуть.
Временные меты расставлял осторожно, не желая внешним крепкое и терпкое вино разбавлять. Древние разбавляли, а у него и его современников ощущения так притупились, что вкус должен быть предельно насыщенным: иначе и не почувствуют. Не желал в жизнь героев своих эпоху слишком впускать. Тогда ею бы пришлось заниматься, чудовищем, людей пожирающим. Их не любил: мешали человека, если не любить, то с симпатией к нему относиться, или хотя бы нейтрально. Эпоха человека топтала. Собьёт с ног, затопчет, на мелкие кусочки порвёт и пожрёт, остальное слижут собаки. Когда-то писали в тыщу страниц – дух времени – эпопеи, которые ругали историки: времена получались неточные. Неточные? На такие слова лишь немногие были щедры. Большинство историков – люди прямые – прямо писало: неправда, чепуха, нечистая ложь. Начитавшись такого, стал думать, что это всё неспроста. Описать эпоху, толпы людей, куда как легче, чем одну счастливо-несчастную душу, в которой такого и столько – не вычерпать, не исчерпать. Другое дело, чтоб к одинокой душе подступиться, надо много чего в настоящем, в её окружении отыскать, а главное, в её прошлое, как в подземелье, спуститься: из могил предков, притворившись богом, поднять, поговорить, порасспросить, о том, о сём посудачить. Всё только затем, чтобы в отвлечённостях покопавшись, к ней единственной нерешительно подступиться: авось не отринет, не пошлёт, не наорёт: «Пся крев, вон отсюда, писака ничтожный!» Хорошо. Ладно. Писака. Но почему непременно ничтожный? Слово больно уж неуклюжее, злобное, ножом по стеклу. – Потрудитесь, сударь, слова выбирать! – Вызов? Секунданты? Дуэль! На чём, смею спросить? За вызванным выбор оружия! На чём посоветуете? Какими файлами будем сражаться? – Подлец и мерзавец! – Не могу распознать! Какая программа?
* * * Всё к лучшему в не лучшем из миров, Который нам по случаю достался, С которым ты, увы, навек расстался, Покинув самый из прекрасных снов.
Город безлюден. Она едет домой. Луна, где уже люди бывали, и Марс, на котором вскорости будут, над нею плывут. Пыльная буря, стихая, позади остаётся, и, миновав нейтральную полосу, попадает под дождь, сперва не сильный, затем крепчающий, и вот уже потоп несёт по волнам, к горе, словно Арарат, среди иных одинокой. Едет домой, и, как всегда, чувства слоятся, одно надвигается на другое: удивление на тревогу, на сомнение беспокойство, пятое на десятое, всё связано, переплетено, окрашено иронией, смазано едким сарказмом. Светофор то зелёно приветлив, то неразборчиво жёлт, то красен от гнева. На что гневается? Кто разберёт? Всё, что осталось там, в пустынном нынешнем уикенде, непривычно заманчиво. Звучит, словно дудочка, из узких стремительных тел свивающая змеиный клубок, изящный и ядовитый, пугающий и изумрудно прекрасный. Его жильё вспоминает, в чём-то очень удобное, очень удачное, в чём-то какое-то больничное, для жизни никак не возможное. Её дом большой, для одной просто огромный, зимой сжимается до двух комнат и кухни: весь не протопить. Одна комната – спальня, можно не только спать, но и работать. Другая комната – кабинет, в котором можно и спать на диване. В отличие от её, его жильё в соответствии с сезоном размер не меняет. Спальня спальней, кабинет кабинетом, гостиная гостиной, ещё одна комнатка – склад всего на все случаи жизни: одежды, новой, которую носит, и старой, которую не выбрасывает; книг, которые давно не читал: привык с экрана, валяться на диване с книгой в руках почитал за кощунство. Отцовская коллекция марок в огромных, плохо подъёмных альбомах, специальный заказ, золотым тиснением – имя владельца. Коллекция серьёзная: разновидности, зубцы – без зубцов, светло-карминовая – тёмно-карминовая, и так далее и тому подобное, сущая филателистическая бесконечность, никогда и ничем не замыкаемый круг приобретений, обменов, поисков, находок и разочарований, когда редчайшая мелкозубцовая разновидность на самом деле оказывалась на миллиметр меньше-больше, переходя в разряд недорогой заурядности, как всё в этом мире, однако. Подумала: все в мире коллекционеры. Она коллекционирует закаты, как и все обитатели этого дома. Для чего служит балкончик, на котором помещаются тесно, впритык четверо очень худых или трое не очень. На восходы охотников не было: любители с первыми лучами вставать здесь не водились. Но главное, коллекционирует спасённых больных, стараясь не спасённых не вспоминать, чего никогда не удаётся. Он коллекционирует героев, некоторым предписывая заболеть, чтобы отправить лечиться, с некоторых пор в её отделение. Она постарается. Будет внимательна и приветлива, даже, если не приведи Господь, будут не слишком ей симпатичны. А полковник? Что он собирал? Своих солдат, каждый из которых, как говорил, стоит целого взвода. Если солдат – это взвод, то, чего стоит он? Батальон? Бригада? Как узнать? У кого? Может, её писатель напишет, тогда она и поймёт. Для этого должна всё, что знает, писателю рассказать. А этого не может, не хочет. Раз так, то хочет чего? Простого: чтобы больные пошли на поправку, чтобы профессор дописал две статьи, в которых ссылается на неё, чтобы уикенд был скорей, и чтобы под горой или у края пустыни вместе было легко и хорошо. Для этого, кроме выздоравливающих больных, нужно, чтобы его к компьютеру не тянуло. Различала, когда находило и нужно его отпустить, иначе будет мучиться, разрываться, ни в чём толку не будет. Чтобы отпустить – что-то придумать, срочную необходимость засесть в интернет, например. В такие минуты был очень доверчив и с радостью мчался стучать по клавишам, а когда кончал, обессиленно к ней прижимался, интернет обрывался, и тут два варианта: или в постель, или каждый к клавиатуре своей. Но это от неё не зависело ни под горой, ни у края пустыни. Вначале раздражало, бесило; научилась смирять себя: если позвонят из больницы, он тоже будет беситься? Живут в одном городе, но в разных климатических зонах. Она в зоне гор. Он в зоне пустыни. Говорят, рядом с городом зона альпийских лугов. Оказывается, она есть не только на родине, в Альпах. Но дело не в этом. А в том, что, когда в её зоне ливень, потоп, крыша течёт, и она вёдрами, мисками потоп уловляет, у него тишь да гладь, разве что солнце за тучами. Зато, когда у него песчаная буря, если форточку не закрыть – заметёт, не откопают, у неё тихо щебечущий ветерок – ни пылинки. Она его дразнит: «Голову высунул из песка? Или ты всё ещё страус?» Он её: «Как скоро появится Арарат?» Может, им лучше съехаться посередине, в какой-нибудь страусно-араратной долине? Но – страшно, съедутся и – разбегутся: привычками не сойдутся. Уикенд для привычек – слабое испытание. Хоть частый, хоть постоянный, но всё-таки гость, полтора дня можно и без привычек прожить, всю ответственность на форс-мажорные обстоятельства возлагая. И у неё, и у него не раз возникало желание что-то друг в друге не то, чтоб исправить, чуть-чуть, подточив, ловчей к себе приноровить, приспособить; хватало опыта и ума не пытаться. Если кто-то почувствует, что изменение обоим во благо и способен его совершить, слава Богу, а на нет – дело известное. Тут бы поохать, им бы лучше раньше друг друга найти, когда привычки были не столь заскорузлыми, хоть крупнозернистым наждаком, но всё же стираемыми. Охать можно сколько угодно. Без пользы. Как он говорит. Безрезультатно. Так она выражается. Одним словом, бессмысленно. А к смыслам, из которых осмысленность и слагается, оба относились в высшей степени уважительно, она – даже трепетно. Без смысла нет и абсурда, значит, жизни, ведь жизнь – это абсурд, нежно зефирово розовый или грубый и чёрный, как повезёт. Про жизнь и абсурд было красиво, только её докторским мозгам недоступно, о чём сказала в надежде: объяснять он не станет, подумав, что глупо. Сказал – и сказал. Кто не спрятался – я не виноват: ритуальная формула детской игры, которую помнил прекрасно и применял по разным поводам неоднократно.
* * * Это там, за стеной, за стенанием листьев осенних, Это там, за пределом навсегда наступившего дня, Это там, в суете в память вросших мгновений, Это там – в слишком трезвом бурчанье дождя.
Гора была не настолько высокой, чтобы её вершина в облаках исчезала. А дом под горой был не настолько мал и ничтожен, чтобы его с вершины горы совсем не было видно. Удивительно: гора была девственно откровенно зелёной, несмотря на то что не раз и не два лес рубили и густым острым дождём щепки летали. Уикенд за уикендом: гора, на которой жили некогда самовлюблённые боги, дорога, пустыня, где продолжают прятаться бесы, вечно собой недовольные, и снова коричневато-зелёная, и снова жёлто-коричневая, где на падаль, как философ на мудрость, как верующий на истину, набрасывались шакалы. Во время оно, когда боги не эмигрировали ещё в далёкие, никому не известные страны, с большой вероятностью, совершено бездоказательно, совсем бездыханно утверждалось, что они с бесами, отнюдь не враждуя, встречались, вместе даже обедали иногда и – хоть трудно поверить – династическими браками в борьбе против атеизма и прочего невежества каузально роднились. Ошарашенному бого-бесовской взаимностью, ему уикенд за уикендом всё сильней хотелось узнать больше, заглянуть в колодец живой-воды-мёртвой глубже, зачерпнув, напиться с самого дна, с илом не только настоящего, но и прошлого, прошивающего настоящее, накрепко остроконечно пришпиливая к себе – не вырваться из объятий, от поцелуев не отвязаться. Можно бесконечно твердить, хорошо бы всё с чистого листа, с самого начала начать. Только как? Начало случилось, лист чем-то замаран. Не сжечь его – не горит, изорвёшь в клочки – бабочки вспорхнут, вновь в единый кокон свернутся. Подмывало расспросить, разузнать: где, что, когда и зачем, но только рот раскрывал, вопросительный знак не являлся, а без него не бывает вопроса – раннеутренний пар над водой, немочь стилистическая безответная. О полковнике знал, хотя и немного. Не только был – он остался, не рядом с ним, не вместо него, в ином времени, в ином измерении, в иной реальности со всем снаряжением размещался. Ревновать глупо. Расспрашивать бесполезно. Всё, что хотела, уже рассказала. Всё, что он хочет знать, дело совсем не его. Попробуй объясни, что не для того, чтобы… Самый великий ритор живым и не опозоренным из такой фразы не вылезет, век-вечный полумёртвым её всё оставшееся жалкое существование дожёвывая, моля Бога, не подавиться. У ловца букв выход понятно какой. Но о таких полковниках пишут минимум лет пятьдесят после того. Такая вот перспектива. Додумать? Прекрасно. Знать бы только, от чего оттолкнуться. Если полковник – тайна, то разгадать её невозможно. А не разгадываемое – это тоска, от которой крепчающие пробки на дороге из пустыни к горе. Буквы стали обходить стороной. Ловить не пытался, с детства знал: бабочек голыми руками ловить бесполезно. Сачком – необходимо везение. Да и зачем? Чтобы, если повезёт, пришпилив, распять на бумаге? Редкий энтомолог способен мёртвых бабочек в живые слова обращать. Разве что этот, как его, в пользу Солженицына от номинации на Нобеля отказавшийся. Интересно, бабочки пустыни отличаются от бабочек гор? Надо её расспросить. Наверняка медики что-то о бабочках учат, хотя бы такое: бабочка как этап эволюции человека. Вначале были рыбами, некоторые ползучими гадами, затем вышли на сушу и вознеслись, вокруг цветов запорхали, дальше понятно, порхали-порхали и допорхались. Значит так. Следующий раз – горы. Про бабочек расспросить? А о полковнике? Через несколько дней за горним утренним кофе она над порхающим этапом эволюции, сперва онемев, заразительно заливисто хохотала, расплёскивая капучино, тоску из бытия изгоняя. Увы, ненадолго. Ему не писалось. А бесписьменный период – время тоски, неотвязно серо-зелёной змеёй изо дня в день за ним переползающей. И как ни зови: «Варитесь мысли большие и маленькие», как ни заманивай, все призывы и заклинания бесполезны. Словно топкий прерывистый сон, дни сквозь него проходили, не задевая, не запоминаясь: время было совершенно пустым, эфемерно ничтожным, пар изо рта на морозе. Дни не исчезали, не пропадали, не отрывались, как некогда на календаре, просто прессовались в один, все туда помещались: были пустыми. А за окном волчьи выла пустыня, скулила шакальи, змеями по песку шелестела о том же, что и назад тысячи лет, тот же вопрос на холмы наметая: жить страдая или успокоиться умерев? Разве этот вопрос кто-либо из живших, живущих и будущих жить возле пустыни или в доме, затерявшемся под горой, себе не задавал, не задаёт, не задаст, не слишком задумываясь, что ответ на него невозможен? Хотя разве задают вопросы, чтобы обязательно ответ получить, а не растерянно глядеть по сторонам в поисках того, что уже потеряли или того, что ещё не нашли? Точно так, как тревожно оглядывалась она, которую заставал растерянной в собственном доме, где, зачем-то зайдя, не сразу соображала, назад как вернуться. Нигде такого с ней не случалось, даже в больнице, перестраивающейся и пристраивающейся бесконечно, нигде, только в собственном доме, над которым даже в мутно туманные дни явственно парила больница, где одни цеплялись за жизнь, другие – за смерть, бывшей избавленьем от боли, страдания, главное – от беспомощности. Одни умирали, продолжающих жить благословляя, другие благословляли смерть, от жизни спасающую, что следует счесть одним из элементов классификации определений смерти, самое занятное из которых – безвременная, то есть, не вовремя, не ко времени. Так и тянет чёрт антонимом за язык: своевременная, вовремя, ко времени, в добрый, мол, час. Тела её больных давно утратили цельность. Они состояли из многих в разной степени болящих и связанных с другими частей. Для большинства её пациентов смерть была великим соблазном, разрешением от всех тягот и бед, соблазном не дьявольским, едва ли не бытовым, очень житейским. Их больная гнетущая плоть даже близких отталкивала, и с этим ничего невозможно было поделать. Чем жизнь могла их соблазнить? Дозой морфия? Искусственной комой? Господи, прости и помилуй! Делая назначение, она являлась им ангелом милосердия, от невыносимости жизни спасающим, по не погружённости в тему с двумя крыльями на спине, одно белого, другое чёрного цвета. Но были, хоть и редко, иные. Один из молодых пациентов, сгоревший за пару недель, как-то сказал: «Вы меня, доктор, пожалуйста, вылечите. В моём возрасте не то, что умирать, но и болеть неприлично». Никто из её пациентов не был поэтом. Никто из них смерти своей не искал. Поэтам одной жизни мало. Им при жизни смерть подавай. В Греции, на Чёрной речке, посредством петли или пули. Надеются, умерев, восхитительный шедевр написать: смерть, что ни говори, субстанция соблазнительная, от бед всех спасение, от болезней всех исцеление, всех грехов искупление, из бездны старости, из хляби болезни, от всего и вся избавление. Мощный суффикс, продуктивней не сыщешь, рыщет зверьё, в пробитое днище хлещет вода – народ изгоняя, весь свет затопляя. Ни души, смертельно пусто, льёт страшно, живое по ковчежцам попряталось до масличного листа голубиного – выживать и рожать. Нет, чтобы при выборе специализации в акушерствующие гинекологини податься, двумя белыми крылами махая, букеты-конфеты всеулыбчиво принимая, к чужой радости изо дня в день компетентно примазываясь, весёлой вестью счастливых отцов одаряя. Не вышло. Приставленная судьбой за ужасом борения жизни и смерти тщательно, пристально наблюдать, старалась страдания облегчать, об ином выборе не смея помыслить. Однажды предложили как человеку близкому к смерти (организатор сформулировал именно так) подискутировать об эвтаназии, мол, когда да, когда нет, при каких условиях и прочее, уходящее в неуловимо безнадёжную бесконечность. Наотрез отказавшись, несколько дней ходила, по собственному выражению, пришибленной (в детстве добавлялось: из-за угла мешком; для пущей наглядности, видимо). Тогда к её профессору обратились. Удивив, согласился, выступал с молодым задором за то, чтобы границы эвтаназии трактовать до (её мнение) невозможности расширительно. Тогда же узнала, что в молодости профессор бегал по североамериканскому кампусу Восточного побережья с Троцким подмышкой, что в те годы было не слишком диковинным. Однако профессору повезло: обстоятельства, или судьба, или что-то ещё подмышечного Троцкого вовремя учебником анатомии заменили. Анатомия, краеугольный камень медицинских познаний, это и камень преткновения для будущих медиков. Она точила его старательно и методично, подражая дождевым каплям, продолбившим жёлоб у дома, в который в ближайший уикенд с бутылкой вина и букетом (каждый раз сорта галантно менялись) войдёт, предварительно отряхнувшись от песка и тоски, в последнее время его одолевших. Что до дел телевизионно-издательских, те, не считаясь ни с песком, ни с тоской, не умея заполнить кипящую пустоту, жили своей непредсказуемой жизнью, по обочине сознания скользя мелко, почти не заметно. И с песком, и с тоской можно бороться, но победить в лучшем из миров невозможно. Сами возникли – сами уйдут. Попытки спрятаться, а коль не успел, не сумел, то прогнать – от лукавого, дом которого, как известно, пустыня. А писатель живёт на границе, к тому же: дом под горой, где его ждут, горный воздух, которым приятно дышать, многочисленные родники, ручейки с водой, великой традицией освящённые. Всем бы такой оазисный уикенд в тягостную эпоху бесконечной, как ломка, пустынно песчаной тоски, всем бы такая надежда, не умирающе не рождающаяся. Надежда эта возникает на полпути из бесконечно пустынного пространства-не-времени, несоединимо параллельного небесам, с которыми гора всех и вся непостижимо сшивает. Дорога была скучной, как мемуары о безумно интересном времени, застревающие на мелких деталях долго оскорбительной лёгкости бытия, одному автору интересных. Выезжая на неё, круто идущую под гору, на склоне которой восходы и заходы солнца спокойно-ли-истово крестит монастырская колокольня, всегда движение ощущал: времени в себе, себя во времени, и, понукая, всё же внимательно, тщательно вписывался в повороты: в отличие от милосердно ровной пустынной, горная дорога убийственно беспощадна. Дорога не только утверждала возможность околопустынного и подгорного бытия, но и их единение, даже внутренне противоречивую цельность на долгий миг или краткую вечность, как уж случится.
* * * Не на ходулях, но чуть-чуть привстав, На цыпочках над миром возвышаясь, Пройти по городу периметром застав, Дружась со всеми и с любым якшаясь.
Горная и пустынная окраины, растягивая, тянули Город в разные стороны, на запад, к Великому морю, где зародилась цивилизация, и на восток, где её пески засыпали. На востоке с взошедшим солнцем все и всё просыпалось, а на западе день заканчивался. Вокруг подгорного дома было мокро, черно, в то время как вокруг восточной многоэтажки было глухо и пусто. Кто знает, что будет в будущем, даже ближайшем. А пока ни он, ни она путь от горы до пустыни и до горы от пустыни сократить не стремились. Сказать точней, это сделать боялись. Ритуализация дороги, неизбежная от многочисленных повторений, обоих пугала. Но этот маленький страх по сравнению с большим – слиянием пустыни с горой, точней, заглатыванием, поглощением – был ничтожно мал, им можно было без особого опасения пренебречь. Отчего это виделось и ему, и ей так похоже? Кто способен внятно эту схожесть попробовать объяснить? Может всё дело в снах? Одному приснилось, что пустыню гора поглотила, и с тех пор пишет исключительно медицинской латынью и только рецепты. Другой – что пустыня гору сожрала: зазыбившись, пасть отворив, проглотила, и она выдумывает здоровых людей, их анамнезами забавляясь, пишет ненужные истории мнимых болезней, на настоящих больных времени не хватает, они умирают, не дождавшись сочувствия и лекарств. Им хорошо было друг с другом. Никогда не скучно, никогда не обыденно, хотя и не ослепительно, не искромётно, чего, впрочем, оба и не желали. И вместе с тем чувствовали опасность, которую вряд ли могли сформулировать. Как-то, в самом начале пути от горы до пустыни и до горы от пустыни услышали новость, слишком сильно подействовавшую на обоих ещё потому, что оба знали героя. Он в журналистском недолгом прошлом делал с ним интервью, а она его матери лет на пять жизнь сумела продлить, и тот подарил ей двухтысячелетнюю плошку, которая в доме под горой в гостиной одиноко и незаметно на журнальном столике красовалась. Приходилось предупреждать, что не пепельница. Всю жизнь герой этой притчи, дикой и невозможной, гробницу царя мечтал разыскать. Боролся с кем положено археологу было бороться, искал – где только мог, нашёл – и не сдался, доказав оппонентам, что нашёл то, что искал. И вот: торжествуя, позируя для победных реляций, облокотился на хлипкий заборчик. Царская могила было на склоне горы (не нашей, другой), нависающей над пустыней (тоже не нашей). В больницу не привозили. А новый заборчик, старого крепче, поставили в тот же день. Было так страшно и настолько нелепо, что тот уикенд промолчали, ели без аппетита, десерт почему-то горчил, а любовь больше на утешение походила. В день похорон, проходя мимо холла, служившего полосой отчуждения от страдания, боли и смерти, где стоял автомат с напитками и здоровым противопоказанными, где телевизор ходячих больных, занятых мелкими ещё прижизненными хлопотами, развлекал, увидела его, отрабатывавшего информационный повод, рассказывая о своих давних с археологом встречах. Задержалась, послушала-посмотрела и, распахнув дверь в отделение, столкнулась с профессором, который механически галантно её пропустил, чему-то своему улыбаясь. С тех пор археолог вместо ангела стоял за их спинами, их уикенды благословляя и от хрупкости заборчиков остерегая. А они его, про себя вспоминая, обще вербальным не делали. Вообще, их общие воспоминания были лишены внешних событий. Не назовёшь ведь событием раз-в-недельную поездку с запада на восток и обратно или наоборот. Ни он, ни она событий таких не искали: то ли каждому прошлых было достаточно, то ли перед последующими переменами пришло время взять тайм-аут. Оба перемены предчувствовали. Он не мог их представить: писательская судьба непредсказуема, она видела себя во главе отделения, хорошо, чтобы её профессор хотя бы на первых порах был рядом в качестве консультанта. Лучше всего к гадалке сходить, но тогда надо хоть сколько этим предсказаниям верить. Дети рационального времени, они лишены были чудесного свойства – стремления втиснуть свою колючую жизнь в судьбу, кем-то предсказанную. Однако же зря. Куда как жить занимательней, обходя белого (чёрного) человека, подозревая встретить его в образе инсталлятора (доставщика пиццы). А встретив, с содроганием событие обсуждать, положив голову на предплечье его, или целуя её родинку между лопаток, на нежную пощаду одноцветного человека, не слишком веруя, всё-таки уповая. Так и жили, отнимая себя от другого и возвращая, невольно духу времени потрафляя, а может, сопротивляясь. Кто знает? Кто может определить? В те археологические дни ему захотелось, свою буйную (неверно писали: кафкианскую) фантазию приглушив, писать что-то неторопливое, ужасно не модное, не жонглируя временами и странами, хронологически степенное, почти мемуары, только не детально фактографическое, для него невозможное. Не зная, как подступиться, впал в жуткое состояние: внутри варилось-писалось, наружу не выходя, не материализуясь. Всплывали кусочки-обрывочки, но кому такое нужно, кому такое покажешь? К тому же гонорары не вечны. Пристрастился к мемуарам, сначала писательским, затем и другим, читал не с экрана, как в последнее время, а по старинке, держа объёмные, тяжёлые книги, сидя в кресле, перед собой, а, устав, слушал доброхотами в аудио формат переведённое. С каждым новым томом его тянуло всё глубже, в давнопрошедшие, на его нынешний вкус очень уютно повествовательные времена, когда скрываться за фигурой рассказчика, часто шутовской и юродивой, было не принято. Прекрасно знал, что мемуаристам и их современникам благополучными их времена не казались, но толща времени, представлялось, их от бед укрывала. Случалось, торжество чужой памяти его раздражало. Особенно когда мемуаристы свои мысли и чувства, от описываемых событий отстоящие на полвека и боле, переносили их на себя юного, а то и ребёнка; но делать нечего: человек вспоминающий слаб. Раздражало избитое: я так чувствовал, но слов, которыми рассказываю, не знал. Слова другие – чувства другие. Не умеешь передать их – заткнись. Помучайся, может нужные сыщешь. Человек вспоминающий. Неплохое название. Для статьи о мемуаристике. Фантомной болью приходило желание в этом духе – сюжет из давнопрошедшего – написать. Плевать, что не купят, что телевизор не клюнет. Плеванию очень способствовал неожиданный гонорар за переиздание двух его книг. Деньги небольшие, но продержаться, на всём экономя, – подспорье серьёзное. Всё, как нельзя лучше, выстраивалось. Мешало одно: не знал, как к задуманному подступиться. Сидел в берлоге все дни до уикенда безвылазно. Продукты по интернету. Готовая еда по телефону. Новости – минуты три в день. Письма – ещё три-четыре. Еда, сон и прочее, включая уборку, если уикенд был восточный, и всё: даже он, с детства с буквами сжившийся, от них иногда уставал. Тогда, невзирая на время дня и погоду, скорей, пока не передумал, выскакивал, нацепив что висело у входа на вешалке, выбегал на улицу, через дорогу – в пустыню, перекати-поле, гонимым ветром, нестись бог знает куда, чёрт знает за чем. Зачем? Или – за чем? Вот в чём вопрос, на который ответ не предвиделся. И кому его задавать? Ей? Тех, кому мог задать ещё лет пять назад, уже не было: одного в пределах досягаемости вопроса, который по телефону задать невозможно, другого – тем более: когда о нём рассказал, заметила, что после диагноза прожил максимум того, что возможно. Не страшно, когда некому задать вопрос, на который есть хоть какой-то ответ. Страшно, когда некому задать вопрос, на который ответ не предусмотрен. Встретились незадолго до того, как тот заболел. Пошёл разговор, что очень далёк от его писательских дел, это их в слишком разные стороны развело. Ответил: для него это значения не имеет, тот давно стал частью его собственной жизни, стал и – остался. Так и жил. Вне умышленного уюта жил жизнью паршивой, от которой только уикенды спасали.
На утро после восточного уикенда за кофе телефон вздрогнул и оглушил. Через четверть часа вошла в реанимацию. Её профессор был без сознания. Инсульт неоперабельный. С женой летел в Мексику в отпуск, одно из немногих мест, где ещё не бывал. Сын провожал. Перед завтраком профессор делал зарядку. Потерял сознание в скорой. Ещё в реанимации телефон голосом директора больницы, находившегося где-то на севере, отдал приказ временно профессора заменить. «Временно» прозвучало вскользь и формально. Первый день недели. Как всегда, времени мало. Под внимательными взглядами, минуя свой закуток, на глупые мысли не отвлекаясь, вошла в профессорский кабинет, провела совещание и обход. На следующий день профессора хоронили, все говорили, как его будет недоставать, и только она знала, что врут: не хватать его будет только жёнам и, наверное, сыну, да ей: столько лет рядом, любимый учитель, ученица любимая. Круговорот, который вокруг профессора при его появлении образовывался, теперь вокруг неё возникал. Сам профессор полагал, что это не круговорот, а клубок змей, лаокоонисто кончины его добивающийся, добавлял он, безвременной, хотя в подобном случае официальная речь это слово не принимала: мол, жалко, но всему своё время. Так теперь и жила, ещё более нервно и суетливо, только уикенды её и спасали. Они, соединённые еженедельной дорогой, вдвоём стали противостоянием хаосу, в который оба боялись, сделав плохо отмерянный шаг, оступиться.
* * * Пошатываясь, в прошлое сойду, Одни ступени тщательно минуя, Иные, чтоб запомнить, именуя, Чтоб не щадяще были на виду
И вызывали ненависть других, На пир не званых, буднично подённых, Пропущенных, прощеньем обойдённых, Словно заклинивший картину мира стих.
У её горы не было имени. Что могло означать: сглаженная временем и цивилизацией, она, если не суть, то горный статус подрастеряла, слившись с ландшафтом; а также: каждый волен её по-своему называть, если захочет. Может, кто и хотел, может, кто-то и называл, по чьим-то усам, может, имя текло, но в общее употребление не попало. Она же, всю жизнь под ней обитавшая, долгое время не знавшая, что есть и горы другие, её называла: Гора. Не Эверест, не Килиманджаро – гора, с заглавной, однако. С его пустыней дела обстояли похоже. В этой пустыне было не столько песка, сколько на морском берегу, может, больше, а может, меньше, но всё едино: его было не сосчитать. Будучи крошечной частью большой, настоящей, с именем звучным, отделённая от неё полосой насаждений искусственных, но внушительных, она была как бы сама по себе. В отличие от киплинговской знаменитой кошары, сама по себе не гуляла – расстилалась, с одной стороны к городу, на неё наступавшему, прижимаясь, с другой стороны – к зелёному пространству, от матери-пустыни со звучным именем её отсекающему. Как и у безымянной горы, у пустыни имени не было. Поэтому для него, а потом и для неё, это безымянное пространство было просто пустыней, если угодно, с заглавной: Пустыня. Гора и Пустыня. Заглавие? Скверное. Если бы издатель навязывал, протестовал, ни за что бы не согласился, ни на секунду бы не задумался. Хотя всегда, выслушав даже нелепое, пытался взвесить и повертеть: может, что-то неожиданно вывернется пронзительно, ярко, абсурдно, оруще изнаночно, протестующе. Против чего тогда протестовали, напрочь забыл, как это было, помня прекрасно. Орущая толпа против молчащей шеренги, время от времени оглушительно стучащей дубинками по щитам. Завидев, заслышав – у толпы ретивое взыграло. Мегафон, один на всех, гулял по рукам, и каждый орал, что в голову приходило. Девчонок было немного. В какой-то момент одна из них, не очень грудасто сойдя с картины Делакруа, с мегафоном в руках рядом с ним очутившись – он её толком не успел разглядеть – вдруг, возбуждая, заорала в мегафон и в его ухо, словно расстёгивая штаны: «Пацаны! Не бздеть! Вперёд! Мы сильнее!» Заорала и, не успев появиться, из его жизни исчезла. Он не забздел: заорал, ринулся, зарычал, о что-то ударился, кем-то подхваченный взмыл, миг – слепо и глухо летел, приземлился, головой врезавшись в чей-то живот, от синяков и чего похуже его уберёгший. Часа через три его родителям отдали, что-то там подписавшим, и они, не говоря ни слова, лишь внимательно с головы до ног осмотрев, его домой отвезли. В полутьме передвижной каталажки живот был опознан по чёрному кольцу из какого-то камня на указательном пальце правой руки. С этим кольцом, животом и всем остальным, включая отца, они пришли разгорячённые громкими разговорами о несправедливости. Когда до назначенного места дошли, оказалось, что потных разгорячённостей целая площадь, небольшая, но вполне достаточная для оглушительного взрыва негодования, который долго ждать себя не заставил. Как только к нескольким полицейским, смять которых было нетрудно даже нескольким десяткам разгорячённых, добралось внушительно снаряжённое подкрепление, площадь заволновалась, раздались кличи, эрегированно, духоподъёмно загудел мегафон, оглушая и оглашая. Пришли вместе, и все трое дружно орали, но, когда толпа двинулась к оцеплению у дубинок искать справедливости, их разметало. С животом с чёрным кольцом они встретились: на раз-два-три по очереди их зашвырнули, но куда делся отец? Кто друга из кичи будет вытаскивать: у него матери нет. У Чёрного кольца семья была странная, ни на что не похожая. Родился он недоношенным в день рожденья отца, бурно праздновавшего свой юбилей в парке с друзьями, где обычно по вечерам тусовались. За несколько часов до рождения исполнилось папе шестнадцать. На шум и гвалт, на ласково призывный сладковатый дымок приехали полицейские, которые, поздравив с шестнадцатилетием, предложили тихо-мирно без протокола всем разбежаться. Немного подумав, решили с мирным предложением согласиться. Его мама, папина подружка, поцеловав именинника на прощание, покатила на велосипеде домой. Как там было дальше, кто был виноват, установить не удалось. Девушка без сознания, доставленная в больницу, оказалась беременной. Врачи родили его и долго выхаживали. Маму они не спасли. Когда стало ясно, что случившийся мальчик выживет несмотря ни на что, две бабушки и двое дедушек устроили совет: что делать с сыном-папой и мальчиком-внуком. Один из дедушек был прославленным профессором лженауки под названием политология. Одни его лжепредсказателем называли, другие – треплом. Прославился предсказанием выборов: результаты были всегда прогнозам противоположны. Одна из бабушек, не дедушки-политолога, а другого, в юности балеринствовала, однако, не долго. Зато всю жизнь была хореографом, своя труппа, небольшая, но очень известная. Её коньком были откровенно эротические (говаривали, порнографические) спектакли. Увы, внуку увидеть их не довелось. Теперь Чёрному кольцу, его лучшему другу, как и ему, было шестнадцать, папе, соответственно, дважды шестнадцать – таблицу умножения оба знали неплохо – считай, тридцать два. Папа и сын жили довольно весело, печалясь один раз в году, когда в сопровождении бабушек-дедушек ходили на кладбище. В остальное время, не слишком себя утруждая, работали и учились, и злые языки – отсохнуть бы им – утверждали, что папины подружки, так сказать, по совместительству мачехи, сына старше, но ненамного – папа любил молодых – были и подружками сына. Про языки сказано не для словца, красного или цвета иного, он ведь знал: о подружках – грязная ложь. Чёрному кольцу подружки были не интересны. Об этом даже папа не знал, только ему, лучшему другу, открылся, на его тело, в отличие от одной из мачех, не покушаясь. Что с языками подобными делать? А то, что, как сообщает один портал новостной, сделали жительница Эдинбурга и местная чайка. Первая, встретив гуляющего в исторической части города молодого мужчину, затеяла ссору, переросшую в драку. О причинах, мотивах не сказано ничего. В конце концов, мало ли! Главное не в ссоре и драке. Кто не ссорится и не дерётся? Когда мужчина намеревался даму ударить, та неожиданно его крепко поцеловала, а затем откусила часть языка и выплюнула. Тут как тут чайка. Подлетела. Подхватила. И унесла. А ту мачеху, вероятно, недолгую, он почти не запомнил. Как-то так получилось, что остались на короткое время одни, и она его практично, очень по-быстрому соблазнила, чему он не сопротивлялся, свою миссию исполнил удовлетворительно и заслужил: «А ты ничего!» Задним числом, однако, полагал, что тот случай не в счёт: первый блин комом, проба пера и т.п. Юные горячие гормоны, опытной рукой в нужное русло направленные, мгновенно вскипели и – ничего сообразить не успел – бурное море и вспенилось. Или иначе, ключевое слово обязательно сохраняя: горячечное шампанское вспыхнуло, вспенилось и опало. Со временем, когда неотвратимо пришло умение смотреть на себя хоть чуточку со стороны, решил: это было его персональное из рая изгнание. Воспоминания – субстанция очень коварная, порой, не мудрствуя лукаво, пойдёшь туда, не знамо куда, найдёшь такое – святых выноси: не пожар, куда хуже – жуткие неприличности, о которых, казалось, забыл, а они вот, совершенно живёхоньки. Где он? Что он? Их пути с Чёрным кольцом давно разошлись. Вот вспомнилось – не забылось. На чём сошлись? Пожалуй, на том, что, как говорили о них вместе и порознь: слишком много о себе понимали. В глазах большинства грех совершенно смертельный. Теперь он часто вспоминал свою жизнь, сочиняя чужую. Кстати, тогда и папу, и сына бабушки-дедушки вызволяли. Сына бесплатно, а папу пришлось под залог: успел заехать полицейскому кулаком по голове, каска слетела, и толпа, отвлекаясь от штурма, долго металлический головной убор этот пинала, изображая футбол. Папа отделался штрафом, настолько серьёзным плюс адвокат, что охреневшие законопослушные бабушки-дедушки в банке кубышки открыли: футбол оказался совсем не дешёвым, равно как и от реального срока (дали условно) папу отмазавший адвокат. Конечно, над тем глупым дитём, выцарапавшим свою душу из пяток, куда она сама собой провалилась, посмеяться бы. Только грешно. А вспоминал с восторгом от страха, который не его, который он одолел. Какого чёрта бросился под дубинки? Перед девочкой покрасоваться? Не забздеть? Тогда, не задумываясь, всё понимал. Сейчас, задумываясь и убедительно объясняя, понимал как-то не очень. Может, об этом и надо бы написать. Начнёт писать – и допишется. Начнёт соображать – и додумается.
Были уикенды. Но не было общей судьбы. Только краешками соприкоснулись. Каждый на обочине чужой судьбы примостился, на проезжую часть не претендуя. Но было и ощущение: и ей, и ему без этих краешков наверняка лучше не будет. Боясь спасительные краешки потерять, расширить уикенды до полнонедельных будней они не решались. И в его, и в её жизни людей было не много. Не встречных-поперечных, больных и здоровых, не соседей-приятелей, недоброжелателей-неприятелей, а тех, с кем видятся хотя бы время от времени, тем более, постоянно. Одинокие волки по природе ли, поневоле? Где б ни была, в любое время года и суток, она была здесь и сейчас, он – не всегда, сказать точней, тогда, когда от здесь и сейчас не мог оторваться, чтобы приземлиться там, где было привольно, где не было целителей, выращивающих неврозы из детских бед и напастей, буравящих мозги клиентов своих, чтобы нефтью драгоценной и долгожданной из подсознания хлынули потоки неприкаянности и недолюбви. Она жила среди величин абсолютных, он – среди мнимых. В одном времени жили, в нём потеряться никак не хотелось, напротив, хотелось его потерять. Их общее время, в отличие от них, очень знамёна-флаги любило: вывешивать – чтобы видели, размахивать – призывая и зазывая, любило цветастую немудрёную знаковость к чему-то высшему принадлежности. А вот она не любила, общественное мнение на этот счёт не разделяла. Все соседи, округа вся вывесили, больница тем более празднично водрузила, а она, ворона белая, нерадивая, поленилась. Так думали: поленилась. У неё вовсе не было. То есть, может, где-то в подвале и было, вполне даже пригодное, не слишком выцветшее и без дыр, но она об этом не знала. Все соседи, разумеется, повывешивали, полагая, что развешивание флагов и маханье флажками придаёт цветасто праздничную монументальность их некогда более величественному, а ныне скромному подгорному бытию. – Может уехала? – Куда? Который год никуда. Позавчера её приезжал. – Уже давно ездит. – Порядочно. Разговор беззлобный. Не жлобский. Интеллигентный. Соседки её знали с рождения. Готовы были помочь всем, чем могли. О ком же им говорить, как не о ней? О чём же, как не об этом? Тем более что говорить было им не о чем. Их нежно старательные шепотки давным-давно надёжно окутали её дом, от бед оградили. Иначе чем объяснить, что столько лет как вкопанный стоял без надлежащего ухода и без ремонта? Некогда очень мужской и весьма аристократический околоток давно числился вдовьим. Пожалуй, и она не была исключением. Соседки знали о ней куда больше, чем знала сама. Причина проста: у них было время и было желание, у неё же на себя саму времени и желания не было. После смерти профессора всё быстро в руки взяла, тем более что и так всё было на ней. Только, в отличие от профессора, полноправного заместителя не было: не полагался, это профессору за заслуги и имя во всём потакали. Ей имя ещё предстояло завоевать, на что были нужны силы и время, конечно, не то, флаги-знамёна любившее, а самое обыкновенное, которого ни на что, даже на жизнь не хватало, которое, как ни цени, всё едино цедится, течёт между пальцами: не ухватить, не задержать. Позвали: обход. Мучиться от бессилия и безнадёжности, от постоянного чувства вины, которой, в отличие от даже очень робкой надежды, поделиться ни с кем невозможно. Крепче прицепила улыбку, помадой тщательно навела, выражение лица припудрила надёжностью и надеждой, поднялась навстречу причастности к жизни и смерти стройно, плавно, балетно, как учили в нежно-розовом зефировом возрасте в студии, которую посещала не долго, но, как показало время (оно ко всему и показывает), весьма эффективно. Изымание из, выдёргивание навстречу давно превратилось в условный рефлекс, как у собаки Павлова, которая зевала, как только начинали ей петь колыбельную. Это наука умеет много (всяческих; слово в мнемонической конструкции излишнее) гитик. В отличие от науки, время не только умеет, но и может много чего. Срываться с места, лететь. Стоять на месте. Топтаться. Сгущаться и разжижаться. Шириться и сужаться. И просто себе тикать в будильнике и струиться в песочных часах, капая на мозги. Но главное, что может время – застывать, во времена превращаясь. А уж об этом, о временах и нравах, он совсем недавно говорить мог часами, и было с кем. Теперь же, после того как встретил её, времена его интересовать перестали и говорить о них стало не с кем. Или, может, наоборот, вначале исчезли те, с кем о временах можно было поговорить, а потом… Что после обхода? Обсудила, что с этим делать, что с тем. А потом понеслось: больные, лекарства, разговоры с начальством, ни пообедать, ни кофе попить, и так до самого вечера. Как описать? Кому интересно? Хорошо бы, вспомнила о нём на мгновенье. Тут – раздолье, избыток фантазии. Только вряд ли в суете привычно больничной, у всех на виду – в кабинет забежать невозможно – о нём вспоминала: для этого надо было хоть на миг вместе с халатом всю эту больницу стряхнуть. Этого не умела. Заварил кофе. Две порции. Выпил свою и её. Решил попробовать сесть к компьютеру, пусть мысль пустячная, всё равно записать, чтобы думать и записывать не разучиться. Встал, идя к компьютеру, передумал и подошёл к окну, в которое неутешительно всей огромностью, громоздкостью, неохватностью пустыня влезала. И так вдруг от пустыни возжелалось ему отвязаться, так захотелось в дом под горой, что, схватив телефон, долго держал перед собой: во время работы просила его не звонить, и этот не-совсем-запрет им неукоснительно соблюдался. И что же он скажет? – Не пишется! – Нам бы ваши заботы. – Хочу в дом под горой! – Уикенд не за горой, за каламбур извините. – Хочу! – У меня пациент умирает. Что ответишь? Удовлетворительным лишь один ответ может считаться: средство для бессмертия сочиняю. – В трёх соснах заблудился. – Услышал из-за окна, где никаких сосен не было и в помине: худосочные клёны, растущие в асфальтовых гнёздах, чтобы по улице передвигаться было не слишком тоскливо. – Чтобы в трёх соснах путаться, надо вначале их отыскать или случайно наткнуться. – По эту сторону окна, хотя он вроде молчал, и в квартире, кроме него, не было никого. Хотя… Как посмотреть. Стены в квартире пустые. За единственным исключением. В маленькой комнате, превращенной им в склад, в гардеробную или во что-то подобное, вдали от чужих глаз и собственной суетности висят два портрета: один в очень тёмных тонах кисти неизвестного и не слишком умелого мастера, которому довелось увидеть его мать в возрасте юном, девическом, рукой подпирающей щёку, и его фотография: в той же позе спустя много лет, незадолго до маминой смерти. Висят рядом, словно даты на памятнике, только тире между ними недостаёт. Хотел какую-то плашку, изображающую дефис, между ними пришлёпнуть или, в крайней случае, фломастером навести. Хотел и продолжает хотеть, не зная зачем: ему зримый дефис вовсе не нужен, а чужих здесь не бывает. Может, ей показать? Спросить, стоит ли? Или пока воздержаться? В конце концов, успеется. Куда торопиться?
опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 2. 2 3. 3 4. 4 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

