Михаил Ковсан
РоманОбычная история жизни и смерти
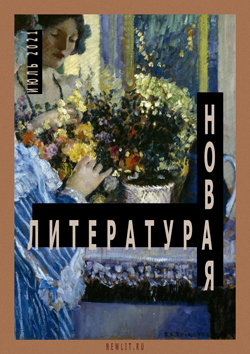 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 4. 4 5. 5 6. 6 5
Всякий раз, когда из окна своей пустыне внимал и она внимала своему созерцателю, подмывало гигантским пером писать на песке, и только мысль о ближайшей песчаной буре от соблазна его избавляла. Глянул в окно, промелькнуло: пустыня в тумане – изысканная форма небытия, странно аукнувшаяся Гиппократом: медицина часто приносит нам утешение, иногда – излечение, но очень редко – полное исцеление. Так-то, на полное исцеление не рассчитывай. Если уж Гиппократ… С медициной, увы, не поспоришь, ни в какую игру не сыграешь. Игра – штука опасная, можно и проиграть, и заиграться. Пустыня захлёстывающим шею арканом свистела пронзительно, а гора выла волком, из норы изгнанным, одиноким. Слышит она этот вой? Не пытается – его нередко это желание накрывало – волку невидимому подвывать? Или она – леди железная? Если предлагаемые судьбой обстоятельства не устраивали – себя играть в них не могла, она их ломала, если нет, без оглядки, стремительно убегала. В пустынном пейзаже любая фигура, даже пёстро наряженного шута карнавального с факелом, зазывно горящим в руке, – деталь второстепенная. Пусть ты – эта фигура, сколько ни всматривайся, самого себя не разглядишь, не увидишь, затеряешься в желтовато-коричневом беспределе. Это двое слепых такое способны увидеть, что ни один зрячий не разглядит, прищурятся, и – нелепую геометрию телесных форм убийственный цвет поглотит, пожрёт – не подавится. Или совершенно не так: только себя и не разглядишь, что-то под кустиком чахлым чернеется. Ну и что? Ущемлённый жутким червивым вопросом, хватаешь эту пустыню реальную до абсурда, переворачиваешь и трясёшь в надежде себя несчастного вытрясти. И? Чем сильней трясёшь, тем меньше надежды, что из желтоватой коричневости что-нибудь выпадет. Тогда, сломя голову, искушение безумия одолев, бросишься в горную зелёную черноту за утешением, безмолвным, возрождающим ласково и терпеливо, и там голову на колени уронишь. И шелест листьев за окном еле слышно нашепчет тебе колыбельную: слов не разобрать, и это прекрасно, они не нужны. Их сближение было быстрым, почти мгновенным. Но дальше ни он, ни она не пошли. Не хотели? Не могли? Может, правильно сделали, ведь, нарушив возможный предел, неизбежно бы отдалились, а то и разбежались в разные стороны. Не его вина. Не её. Вообще не вина. В конце концов, не всякая вина виновата. Отчётливо представляя, описывать внешность не стал, никогда не любил, рассуждая: пусть читатель представляет внешность героя по тому, что тот делает, а не наоборот. Писать только о ней нельзя, бессмысленно, невозможно. Не сложится, не вылепится, не получится. О ней – и о нём. Создана поддержкой, подмогой – рядом быть, с ним не совпадая. В чём-то сойдутся, друг в друга проникнут, в чём-то будут притираться и не притрутся. Тёрки-разборки: покопаться, нужные слова отыскать, гляди до чистой воды докопаешься. Зачерпнёшь – выпьешь, от бесконечной пьяни ночной отпрянешь, опохмелившись. Если только о ней невозможно, нужно его приискать. Хорошо бы полковника. Не знал бы – придумал. Но полковника нет, второго придумать никак невозможно. Если полковник – мягкая сила, то другой по контрасту – бессилие, тряпка? Но кто клюнет на тряпку? Мимо пройдёт, не оглянется. Значит, тоже сила, другая, ранее ей неизвестная. Тайная, нервная, непостоянная – всплески, волнообразная. Она – врач. Значит, профессиональный цинизм: качество видовое. Из одних сугубо индивидуальных черт не слепится, не сойдётся, развалится, как сырники без муки. Из одних родинок тело не сшить. Из одних чудачеств дух в плоть, как ни старайся, не вдунешь. Дома по большей части её окружают старые вещи, ещё лет десяток-другой, и потребуют почитания как старинные. Иронична. С жалом иронии осторожна. Пробует, подпуская слегка: не навреди. Мудра, как змея. Не все женщины, врачей не исключая, мудры, но все женщины, даже врачи, это змеи. Не обязательно подколодные. Интересно, в его пригородной пустыне родной водятся змеи? А если водятся, ядовитые? А если ядовитые, укусы смертельны? Или пригородные змеи разучились кусаться? У кого спросить? Какой-то общий курс биологии-зоологии был же у них. В уикенд – этот пустынный – и спросит. Обманчиво покорная, волю свою не диктующая, нежно, но настоятельно с собой заставляет считаться, от раза к разу область общего согласия мудро и расчётливо расширяя, границы и предпочтения обозначив определённо. Про это, тем более во время этого, говорить даже междометиями не желает, полагая вербальность никак не уместной. Это у него всегда на языке, бескостном, редко прикусываемом, всякое вертится. Если горную хтонь полюбит пустынная, кто кого перелюбит? Не раз было: вертелось, но совладалось, совладалось и промолчалось. Многие связи, совершенно ясные ей, были ему непонятны, не мудрствуя лукаво, от них он отбрыкивался. Для неё всё целостно, неделимо, едино, в единый узел завязано: радость и ужас, смерть и жизнь, гора и пустыня. Для него же всеобщая связанность, всего со всем взаимопроникновение тревожно чертовщиной попахивает. Однако прошло время – привык. Кому как не врачам в свободное от служения больным время с дьяволом знаться? А что? Почему бы средневековую легенду – глупые вампиры и разнообразно порочные вурдалаки – не переписать? Она – доктор блестящий. Он – бес заурядный. Или бес – тоже она? Получается: он и она. Он в детстве читал Плутарха и перечитывал. Грек и римлянин. В чём-то и впрямь он и она. Сравнительные жизнеописания. Параллели: то не сходятся по Евклиду, то сходятся по Лобачевскому. Вначале идёшь по Евклиду туда не знаю куда, затем по Лобачевскому то не знаю что обнаруживаешь. Читатель пусть следом: то сломя голову, то, опустив, под ноги глядя, пингвиньей походкой плетётся. Ловись, читатель большой! Маленький? Тот крючок не заглотнёт, не попадётся. Решив в наступающий уикенд, который выдавался пустынным, её удивить, в интернете напав на вполне подъёмный рецепт, обещавший не слишком затратное по времени пиршество духа, вернулся из супера нагруженный разбухшими кульками и крамольно гастрономическими идеями, главным не пренебрегая, путь к пиршеству сократить. Кульки поставил у входа. Со стены смотрели две черепахи. Одна глядела игриво, жуя травинку и кокетливо лапку согнув, весело убеждая: не боги горшки, всё получится превосходно, главное соли чуть-чуть, один намёк, самая малость: она вообще всё без соли готовит. Другая черепаха поглядывала свысока, оглушая: не со свиным рылом калашного ряда угощенье готовить, закажи в ресторане и подогрей в микроволновке. Художник, живший на краю той же планеты, давно призывался обзавести пару потомством, но то ли пара, несмотря на несходство характеров, оказалось по случаю однополой, то ли у художника черепашье дерзновенье иссякло, но не приезжал, а без него расплодиться они не могли, жизненное призвание своё ограничивая, встречая его и редких гостей этого жилища у пустыни на самом краю. Черепахи не для неё. Её звери встречают не в доме – у входа. С ассирийских времён это львы, стражи порога. Её каменные львята, гордо сознающие себя наследниками великих львиных традиций разных стран и народов, встречают, врожденную клыкастость добродушным выражением ехидных морд маскируя. Один некогда от грузчиков углом холодильника в каменный глаз получил, тот заплыл, помутился, зато второй глаз – даром, что львёнок – на входящих косится пристально-подозрительно. Второй львёнок, как и первый, дому ровесник, тоже не молод, зато без порока, как в ранней юности, смотрит на входящих породисто злобно, обещая вырасти во льва удачливого, счёт жертв на многие сотни ведущего, может, и тысячи. Беда в том, что и дом, и львята, кудрявые и бесхвостые, не взрослея, не молодея, разрушаются медленно, неотвратимо. Рассказала, у отца была привычка, входя и выходя гладить правого львёнка, получалось, гладил и того и другого. Без обид. Никого не любил обижать. Полез в интернет – по каменным львам пробежаться, кто знает, может они, древние, как страх и тщеславие, какую-нибудь спасительную истину прорычат. Те были бесчисленны, не страшны, изящны, игривы, но жутко и бессмысленно молчаливы, ко всему, к нему в первую очередь, безразличны. Львы были везде. Охраняли вход в правительственные здания и частные особняки, были на фронтонах затейливых домов и на фасадах строгих полицейских участков. Львов было много. Львов было бесчисленно. И лишь у неё были львята, в нежном возрасте взрослых львов прогневившие, изгнанные из прайда. Странствующая участь и для взрослого льва тяжела, что о несмышлёнышах говорить. Мир без добрых львов, но не без добрых людей, приютивших окаменевших от горестей и одиночества львят, от когнитивного диссонанса страдающих. В углу экрана всплыло письмо. Раскрыл. Даровавший жизнь черепахам объявился множеством букв, из которых слова пытались сложиться, но у них получалось не очень. Буквы все были разные, но все осторожные, даже самые скверные. Из письма – художник умел творить гармонию, но не буквами – из хаоса отчаяния восставало во всей первозданности: даже умирая, не умирай! Что ответить? Смайликом отписаться. И встряхнуться, отряхнувшись от желания хоть ветру, хоть волку, хоть кому ещё подвывать. И мысль, быстротелой чайкой взметнувшись, вороной каркнув ехидно и воровато, дрогнув бабочкой нежно, светясь розовато, к гастрономической прозе жизни вернулась. Прежде чем приступать к сотворенью шедевра gourmet, следовало не по-французски, а на родном языке съесть хотя бы глазунью: не тратить время на взбалтывание, после чего неизбежны яичные брызги, которые вытирать нужно немедленно, пока омерзительно не застыли, тряпкой, которую ещё надо найти, пока ещё вопреки всему тавтологически жив. Приготовить надо такое, что её удивит, и непременно оценит воспарение над фастфудностью бытия. Вместе с тем – неразрешимое противоречие – это должно быть нечто, после чего через час не надо пиццу заказывать. С луком? С грибами? С маслинами? Со свежими мыслями? Что на всё это скажет? Промолчит? Головой качнёт? Усмехнётся? Пустится в рассуждения? – Тяжелей всего болеть и умирать людям всю жизнь здоровым, к мукам и таинствам лечения не привычным. Они созданы не для того, чтобы медленно и безобразно из жизни выламываться, если случится – ломаться, как в грозу с треском и грохотом могучие деревья переламываются пополам. – Я выломаюсь или сломаюсь? – Ты шедевр gourmet сотворишь. Только соли́ осторожно. – Получится? Не сбежит, не подгорит? – Даже не скиснет!
* * * В Кривоколенном переулке Кривоколенно всё течёт, И тишь, и гладь, и вкривь, и гулко, Всё незачем, всё нипочём.
Удивило, что, заменив профессора, первое время более прежнего уставая, витая в эмпиреях больничных, если таковыми можно назвать обрушившиеся дела и заботы, быстро пришла в себя, и всё вернулось на круги своя. А в мире, внутри которого, как Иона в чреве морского чудища, они находились, в мире, плотно от них отчуждённом, лес рубили – щепки летели. Конечно, эта отчуждённость, эта граница не была абсолютной. И видимой не была. Такое бывает, с открытыми глазами ничего люди не видят, а с закрытыми видят и то, чего не желают. Мир этот, притчеобразными фигурами населённый, скорбел радуясь и веселился печалясь. Маятник его благоразумия раскачивался, установленные границы глупости часто пересекая. Экологи по поводу леса и щепок истошно и бесполезно орали. Щепки летели безнадёжно, ни на что не ропща, пока не задумали чёрт знает зачем сообща башню построить: до неба добраться – мир увидеть, себя ему, других посмотрев, во всей тщательно выверенной шебутной красоте показать. Не знали, не ведали: сколь тщательно ни строй великую башню, уступчиво стремящуюся к остроконечности, рано-ли-поздно обвалится, под разноязыкими обломками всё погребая, даже на то несмотря, что облака и тучи, не замутняя всемирный пейзаж, осторожно – не навредить, обходят её десятой дорогой небесной. Он башню воочию видел. Не на картине – живьём глазами своими. И – представлялось – бродит от обломка к обломку, цветом и формой подходящее мозаичной картине, которую складывает, подбирая. Долго вертит, рассматривает: не всё привлекшее взгляд подойдёт, да и много ли камней унесёшь? Заплечный мешок его полон, того и гляди, споткнёшься – не встанешь, не поднимешь груз, не дойдёшь. Но когда ещё случится, когда ещё выпадет – жестокая жадность одолевает: вернувшись, в отчаянии обнаружишь, одного-двух камешков не хватило. Вот и бродит день, бродит другой, шатаясь от голода, вот-вот свалится с ног, оторваться не в силах. Кто бы помог! Озирайся-не-озирайся, смотри-по-сторонам-не-смотри – никто не придёт, никто не поможет. Сам строил башню, сам и рыскай между обломками, между жизнью и смертью, спотыкаясь, вышагивай, ищущий да обрящет, это, конечно, но как отсюда уйти – вдруг малости малой не хватит? Вернётся, содрогаясь от страха, начнёт, взыскуя гармонии, пустоту пустынную духом каменным наполнять: из небытия, из тумана гора появилась, повисли над ней, верхушек деревьев касаясь, растрёпанные облака, похожие на бельё, трепещущее в старых забытых дворах на ветру. Дорога под горой побежала, пошли люди, потянулись повозки, автомобили помчались. От дороги отросток, вымощенный обломками вавилонскими, к дому немощно потянулся. Львята явились, зевая, пасти открыли, заглатывая хвойным духом насыщенную пустоту. И стены, и крыша, и водосток, и сад, заросший и неухоженный. На всё достало, хватило на всё – не зря страдал, от голода мучился, не зря плёлся, сгибаясь под тяжестью, взор в прах земной залежалый потупив. Не зря. Не попусту. И – спохватился: она! Господи, на обитательницу дома, на неё осколков вавилонских и не хватило. Назад рванулся – упал. Не подняться. А если подняться, то не дойти, а если дойти, ничего не найти, а если найти – не вернуться! Пусть даже так! Но – идти! Поднялся, пошёл, отыскал, вернулся, дополз, вставил нужные камни в оставшуюся пустоту. Всего только. Сил встать и увидеть мозаику не было. Закрыл глаза – и увидел. Увидел – и умер. – Что получается? Башню строят лишь для того, чтоб развалилась? – Хоть бы и так, что строить не станете? – От чего устоявшая от ветров и землетрясений, от чего развалилась? – Такие вопросы и развалили! Не вопросоустойчивой оказалась! Зато кулинарный шедевр вопросов не вызвал. Не подгорел, не переварился, не пересолился-переперчился, был съедобен, но на гурмэ не тянул. Хорошо не проболтался, обещая амброзию, к ней бутылка нектара. Bon appétit, Madame! Проснувшись утром и протянув руку, нащупал неожиданно защемившую пустоту. Нарушив негласное правило, проснувшись раньше, готовила завтрак. Пресёк. Исполнив, по собственному выражению, брачный танец пингвина, затащил обратно, совершив таинство, её оставив в постели, двинул на кухню. Оказалось, что всё готово, и через полчаса они шли по асфальтовому краю пустыни. Пустыня асфальт песком заносила. Асфальт чистили, отражая агрессию. Здесь были почти одни. Встретилась пара, рука в руке, что крайне при ходьбе неудобно, им, видно, спасительно. Разве только слепые бредут, держась друг за друга? А зрячие? За кого им держаться, не ведомо куда продвигаясь? На обратном пути на них наткнулся высокий худой, лицо полускрыто бейсболкой, плотно на лоб нахлобученной. Пробежав мимо, бейсболист развернулся, забежал перед ними и, ногами на месте перебирать продолжая, стащил бейсболку и церемонно в её сторону поклонился. Оказалось, выживший пациент. Видел: ей было приятно. Когда, обменявшись малозначащими словами, свидетельствующими: она его вспомнила, а он вопреки всему, её стараниям благодаря ещё жив, разошлись, смахивая с лица пылинки, славословия и сомнительные комплименты, призналась, что этого пациента у неё не было и быть не могло: диагноз не тот. – Получается, у меня профессия написана на лице? – Ну что ты! – Ухватился за соломинку, одну из тех – границу не перейти, не задеть ненароком – за которую оба хватались, чтобы хребет верблюду не проломить, а то на пустынный горячий песок рухнет тяжело и огромно, из-под него им не выбраться. – Просто лучи славы тебя озаряют! – Ну-ну! – Вскинув брови, пальцем указательным погрозила. – Липкий льстец! На что, на минуту задумавшись, остановившись, изрёк:
Проснувшись знаменитым поутру, Состричь купоны славы не забудьте, Не ровен час – к полудню пропадут: Растают, и прокиснет словоблудье.
Изрёк и застыл в ожидании. Никогда не знаешь, какое слово, а то и жест какую ассоциацию вызовет: прошлое каждого было не слишком им внятно. Блеснёт, дёрнет, неожиданно уведёт: иди, свищи, неведомо в какой тьме без фонаря, без свечи, что точно не зная, отыскивай! Реакция была неожиданно очень спокойной, или истинную задумала скрыть. – Пошли домой. «Домой» его удивило, до этого слова дома у них были разные. Через полчаса смотрели знаменитый балет, который вообще-то он на вечер припас, но вчера до него не добрались.
Уикенды сливались в один, в лучшем случае в два: восточный и западный. Порой казалось, ужасно, жизнь тонула в больнице, больных, статьях, стажёрах, тонула, чтобы привычно в конце недели на две ночи и один день выплывать. Так киты являются на поверхность вдохнуть и вновь погрузиться. А может, ежедневное вовсе и не ужасно привычно? Того боле – прекрасно? То думала так, то думала этак, не придя с собой к единому мнению, старалась лишние вопросы выбросить из головы, но те демонстративно упрямо ни за что никуда не выбрасывались, не подражая ошалевшим от превратностей жизни китам. В отличие от полковника, у которого всё всегда было ко времени, в особенности любовь, у писателя, в первую очередь, любовь не всегда была к месту, ко времени, что вначале её заводило, потом забавляло, затем эти ощущения стушевались, хотя прерванного обеда было ей жалко, разогретое, теряя вкус первозданности, было не то. Да и накормить писателя после этого было не просто: пожирал всё, что видел, не разбирая. Обидно! Целое утро стояла, вдохновенно сочиняя салаты, трясясь, чтобы мясо не подгорело. А этот попробовал, чудовищным глотком выжрал вино, схватил, потащил, скомкав прелюдию, исполнил все любимые арии не беззвучно, но бессловесно, затем занавес падал долго, устало и обессиленно. Приподнялся, посмотрел в глаза, поцеловал, рассмеялся: «Мадам, кушать подано!» Прыгнул на кухню, как мог порядок навёл, какую-то мелодию напевая, позвал, поклонился, налил бокалы: «Ваше здоровье!» Глотнули – салаты разобраны, соус разбрызган, горячее подгорело. Приспичило. Не вовремя, как всегда. Или – почти всегда. Разница не велика. Дефиниция не существенна. Когда расставались, особенно когда к себе в пустыню он уезжал, появлялось чувство: не досказала и никогда не сможет уже досказать, не те обстоятельства, не то настроение, да мало ли, всему своё время, которое, похоже, она упустила. Пыталась определить, что не досказала, и, несмотря на умение формулировать чётко и ясно – профессор не раз её формулировки использовал, всегда её авторство отмечая, если не забывал – несмотря на своё умение, суть недосказанности ухватить не могла. Всё расплывалось, мутнело, виделось, как сквозь запотевшие на холоде от дыханья очки. Снимешь – мутно, наденешь – мутней. Что в лоб, что по лбу: стучи не стучи – не выбивается. Увлечённые еженедельным движением навстречу друг другу, они не задумывались о том, что там, по ту сторону горы и пустыни, по ту сторону движения единящего. Не задумывались? Счастливо не давали труда себе думать об этом? Ведь труд этот ужасно неблагодарный, прилипчивый и докучный. Сизифов? Если бы только. По ту сторону жизни заглядывать похоже на древесину, забывшую, что была деревом. Не очень понятно? Пожалуй. В невнятной непонятности и спасение. В то утро всё сошлось воедино. Злые узлы завязались. Добрые развязались. После бессонной тяжёлой ночи проснулась: больная мысль, сверкнув скальпелем, разбудила, вызвав ощущение крайней неуместности своего бытия под слепящим солнцем, которое не светило, под луной, которой не было видно. И ещё: ничего не было слышно. Оставалось, ощупав себя и ущипнув, убедиться: жива и проснулась. Но и этого делать ей не хотелось, потому что делать не хотелось ей ничего. Кто-то высокий с неразличимым от постоянного мельтешенья стёртым лицом, вверх вытянув руки, что невыносимо удлиняло фигуру, его и её ребёнка подбрасывал. Ни высокому, ни ребёнку не было весело: обычно в таких случаях оба смеются, хохочут, визжат, веселием заливаются. А тут всё молча, всё тихо: пославший сон звук выключил и включать не собирался. Сочинивший сон долго немую картину крутил, но и ему надоело: ребёнок упал, пропав в пустоте, а высокий вознёсся, в серости мокрых небес растворился. В обломившейся немоте лёгкость сквозную скользкую ощутила: ничего не держит – отпрянув, взлететь, порывисто отлететь, как мотыльки от огня, смертно светясь, отлетают. Тянет-манит – но горячо, ещё взмах – горячей, больнее, и – всё. Придумать, как изощриться, никого не подставить. Двойная доза – и кома, до десяти не сосчитаешь. Это было давно, задолго до полковника, считай, до всего. Но однажды нашедшее, напавшее полностью, даруя покой, никогда не оставляло, хотела забыть – не исчезало. На месте перелома след остаётся. Костный мозоль. Про себя говорила: то утро. Другие утра не то, другие утра иные. Куда ни кинь – клин, то утро ни клином, ни чем другим вышибать не умела. Проснулась. Малонаселённый ковчег, от земли оторвавшись, раскачивается на волнах. Туман всё пожрал: не только горы с больницей – сада не видно. Крыша, капая на мозги, протекает. Всё куражилось, кочевряжилось, над ней, уставшей делать себя, а значит, и жить, издеваясь. Автоматически в зеркало глянув, от увиденного отшатнулась. Будь своим мужем, от такого бы, бросив всё, убежала. Это тогдашнее видение время от времени её посещало, то в жар, то в холод бросая. Захотелось завыть по-волчьи, по-бабьи заголосить. Завыть по-шакальи. В этот будничный день, взяв отгул, собиралась на кладбище: у отца годовщина. В первые годы съезжались родные, знакомые и коллеги, теперь забыли, одна приезжает. Она только год как работала. Как назло, тогдашние пациенты один за другим уходили. Было неудивительно: ей как новенькой дали те две палаты. Профессор распорядился, чтобы сразу – головой в воду – привыкла, а может, просто обрадовались, что на новенькую можно спихнуть, и профессор ради неё не стал обычай ломать; до сих пор причины не знала. Первого своего пациента, покинувшего палату, мир и её, запомнила навсегда. Пережив жену, детей и себя самого, умер в возрасте по тем временам Мафусаиловым, день ото дня, а затем час от часу истончаясь, своё присутствие на кровати, в мире, в палате неумолимо, настойчиво сокращая. Обычно умирали старики и старухи долго однообразно. Чаще всё-таки старики. Делала, что могла. А могла часто немного. Больные её, однако, жалели, часто уходя по ночам, и не тем, когда оставалась дежурить. Старики-и-старухи со временем сливались в единое долгое умирание, тоскливое, но не слишком больное. Бывали и молодые. Тех помнила. Они умирали очень по-разному, очень индивидуально мучительно даже не для себя – боль снимали, для окружающих. За несколько дней до того утра, когда злые узлы завязались, пришло подтверждение: её однокурсница, единственная подруга, с которой делилась, строго дозируя, самое больное при себе оставляя, погибла. Вместе с парнем своим на край света рванула походить-побродить по горам, по долам пошляться-полазать, в случившиеся бездны, любопытствуя, позаглядывать. Тела спасатели вертолётом из какой-то дикой лощины добыли; теперь везли на родину хоронить. Надо было, покорствуя судьбе, вылезти из-под одеяла, съездить в больницу, с ампулой исхитриться. Это спасло. Стала соображать. Мысль, хоть недобрая, но не простая, убого преступную прогнала. Поднялась, холодным душем горячую голову остудила, хлебнула кофе, рванула на кладбище, оттуда, придумав покупки, по мелким магазинчикам побродила, встретила знакомого парня, когда-то безнадёжно на неё глаз положившего, с которым сто лет не виделась, пообедать его затащила. Он явился из потусторонне давно забытого мира – её от себя самой вызволить, от жестокого соблазна спасти. А то, что, исполнив миссию, и полслова благодарности не услышал, что ж, таков неутешительный удел всех спасителей. Пока долго готовили, что-то рассказывала, наверное, о больнице, о чём же ещё? Узкоплече возвышаясь над столом и над ней, слушая её, плаксиво-просительно ронял междометия, часто моргал, зажмуривался, подхихикивал мелко и судорожно, протирал глаза, дёргал туда-сюда змейку ветровки и перебирал пальцы, пересчитывая: все ли целы, все ли на месте. Пересчитывание пальцев, с тех пор как не виделись, было новоприобретённым, или раньше не замечала? Зато худоба – казалось, эта плоть никакую одежду не способна наполнить, и косноязычие, которое пытался маскировать, его не покинули. Представила без одежды. Обглоданный неудачами Дон Кихот обнажённый с ногами кривыми и волосатыми, Санчо Пансо по пути чёрт знает куда потерявший. Ветряной мельницей крылом по темечку тюкнутый. В кепчонке. Чтобы было смешней. Захотелось реветь, что было невозможно и унизительно; делать этого не умела. Будет бесконечно долго её целовать, ни на что более не решаясь, истекая слюной и спермой, на брюках будет пятно расползаться, елозить губами и языком, ожидая: сама позовёт-подтолкнёт. И если случится, будет неумело настороженно-восторженно раздевать. Представила гениталии, отделяющиеся от худобы, мошонку, отделяющуюся от члена. Представила – ужаснулась. Глянула на еду – вилку на край тарелки положила брезгливо, усилием воли необоримую неотвратимость отодвигая, и кривовато, принудив себя, улыбнулась в отместку за дикие мысли, поутру её едва не сгубившие. Он дёргался ошарашенный, поправлял ветровку, съезжавшую с плеча, та снова сползала. Когда окликнула, удивился, встрепенулся, обрадовался, занервничав, что-то рассеянно отменил, заказал дорогущее красное особого года: все стихии восхитительно удачно сошлись, в тарелке ковырялся рассеянно, тыкаясь невпопад, её кредитку у официанта забрав, за всё сам, добавив к счёту несоразмерные чаевые – в их кругу было принято пополам – расплатился, проводил до машины и вздрогнул, когда, придя в себя, она сухо – глупые авансы раздавать не любила – с ним, прикусив язык, распрощалась. С языка срывалось – такое случалось – подслушанное: не всякий камамбер посмеет расплавиться в циферблат. Прикусила и выразительно глянула на часы. Отъехав, у ближайшего светофора остановившись, подумала не вопросительно: дура, почему к себе не позвала. Мысль эта протащилась как-то сама по себе, ничего в ней – очень устала – не задевая, в вопрос, тем более больной, не превращаясь. Нелепую мысль – та не сильно сопротивлялась – легко отогнала. В дождливую погоду дорожка к дому в улитках, словно в солнечную – городское пространство в одиноких людях, ищущих то, что невозможно найти. Зазеваешься – хрустнет под ногой мелкая склизкая жизнь. Под рассеянной ногой обязательно хрустнет, напоминая о несправедливой скоротечности белкового бытия. Мысль о ребёнке, конечно, приходила ей в голову и не раз. Приходила, и, столкнувшись со множеством неясностей и вопросов, сама собой уходила.
С друзьями ему не повезло. Обычно их заводят в ранней не переборчивой юности, в детстве неразмышляюще безотчётном. У него в детстве не получилось, переезжали с места на место, так и тянулось: школа за школой. К страшим классам осели, и сама собой – только так и бывает – по известной формуле сгоношилась четвёрка, беда только, каждый из них дартаньянствовал, хрупкую конструкцию на прочность испытывая. Нет бы жребий: лидерствовать по очереди, помесячно или там понедельно. Никто не сообразил, не додумались. Так в соперничестве – кто-то что-то сказал, кто-то что-то задумал – накатилась волна первых затяжек, первых глотков, которую без особой паузы новая захлестнула. Первые поцелуи, приискание более-менее надёжного места под зашедшей за тучи луной в поисках себя и её, покромсав недолго, но беспощадно, четвёрку в разные стороны растащили. После выпускного и вовсе не виделись. Пересекаясь случайно, пытались общими воспоминаниями перехлестнуться; получалось не очень. Параллельно и Чёрное кольцо появился, очень близко, не очень надолго. Потом сходился лишь ненадолго, чем старше становился, тем срок был короче. Так что с друзьями у него не сложилось. В отличие от подруг, из четвёрки первым его утащивших. Чем дался? Юной смазливостью? И остальные уродами не были. Стишками? Это ведь не гитара, по тем временам длинноволосого послебитловского наводнения ценившаяся высоко. Повзрослев, пытаясь тайну собственного успеха понять, причины и следствия тщательно сортируя, плюнув, карты смешал, придя к заключению, что влечение-увлечение тайна великая есть: разгадывать интересно, разгадать невозможно. Помнится, домой возвращаясь после любви долгой и продолжительной, мечтая об одном, скорее в постель и хоть сутки без просыпа, натыкался на одноклассницу, у которой родители от домашних забот куда-то свалили, а в холодильнике белое полусладкое. Сон моментально снимало рукой, с него нетерпеливо одежду срывавшей, и через полчаса они голые пили полусладость, белую и холодную, черпая в ней новую силу, а в голости новое вдохновение. В чумной чехарде, цветастой мозаике, хороводе-водовороте желание, остановившись, прислониться время от времени возникало, но то ли никому не удавалось накрепко привязать, то ли инерция движения была слишком сильна, но, начавшись отпадением от четвёрки, бег продолжался вплоть до... Заскочил выпить кофе по-быстрому, на ходу, столики заняты, попросил разрешения присесть визави – не глядя, кивнула. Глотнул, глянул, подумал, что удачу грешно выпускать, у неё что-то упало, поднял, ветер дул в паруса, улыбнулся, позвал выпить кофе по-настоящему, не то что эта бурда. Старая привычная волна понесла, а накрыла новая неизведанная. Стёкла в ближайшем баре задребезжали, на столиках чашки-ложки подпрыгнули. Волна подняла над исчезающим прошлым, наверху задержала, чтобы мог рассмотреть, опустила осторожно и аккуратно – не оглушить, не отпугнуть. Перещёлкнув, всё продолжало двигаться единым кадром без всякого монтажа. Как в самом начале, еженедельно перемещались в пространстве с запада на восток и с востока на запад, от богов к бесам и от бесов к богам, словно еженедельное перемещение красными флажками отметили, их от мира, а мир от них отделяя, будто затейливая перфорация старых фоток отграничивала в песок ушедшую жизнь, остановленное мгновение которой было не слишком прекрасным; так себе, в общем, рутина. Мир, которому дух истории в спину дышал, самого себя ставя на паузу в выходные, в будни им достаточно досаждал; они миру нужны были не слишком, чтобы ещё в выходные с ними возиться. Прав был Господь, время распределяя: пусть от дел отдыхают. Какие у неё отношения с ним и с духом истории (Zeitgeist, дух эпохи, дух времени тож)? Отвечать не торопился. Время, если захочет, покажет. А если нет, не захочет, если нет, не покажет? Пишется-пишется, до ответа допишется. А на нет и суда, разумеется, нет. В таком случае кому она интересна? Ему. Достаточно? Не в телевизор же её назначает – себе. Боги и бесы духу истории были совсем не подвластны. Zeitgeist в очень учёных, несомненно, немецких мозгах зародился и, как из головы Зевса богиня разума Афина Паллада, торжествуя, громогласно явился. А боги? А бесы? Ни те, ни другие его явление за своими делами и не приметили. Старшие боги младших за нектаром и амброзией посылали, ели и пили, юным по их скромным летам отщипывая и по чуть-чуть наливая. Иерархия? Дедовщина? Что бы ни было, но памятников отцам-основателям, как дух истории велел своим подданным, не трогали, не сносили, гнусными надписями не оскверняли: боги – не бесы! Впрочем, и те на святое руку не поднимали, да и памятников в пустыне не было вовсе. Некому ставить: одни не умеют, другие не заслужили. В пустыне на одном месте долго ведь не живут. Пошли, стан на короткое время поставили, по окрестностям пораскинув мозгами, воду из оазисного источника досуха выпили, и – айда лучшую долю искать! Так и живут бедные бесы одни одинёшеньки, бесенят растят, топчут угнетающе бесчисленный родной песок козлоного: ни дна ему, ни покрышки. Сера бесовская жизнь, живут одной мечтой о нектаре-амброзии божественной, скудненько пробавляются. Усыновили бы их боги бездетные, немало таких на горе холостых и задорных, об одинокой старости живут-себе-поживают, не думая. Об одном мысли безбожно язычьи: что за праздник без драки, как бы стариков обмануть, хорошо погулять, вкусив, раззудись плечо, размахнись рука, разгуляться! Впрочем, так размышляли молодые боги не все, только жертвы нарушающей исконный иерархический порядок стремительно распространяющейся демократии, грозящей всё и вся опрокинуть. И у бесов дела шли не лучше: зараза демократизации оказалась всеобщей. Как принято теперь говорить, всё сваливая на неё: пандемия. Вроде бы далеки друг от друга боги и бесы, бесы и боги, взаимообразно существование друг друга начисто отрицающие. И то сказать, пространство между ними столь плотно людьми заселено, что даже малейшему слушку туда-сюда не пробраться. Хотя… Кто его знает, нет ли между ними связи мистической, людскому познанию не доступной, и, отрицая друг друга, тайно вступают они в диалог, а то и дискуссии учиняют, не меч, но мир друг другу неся. Тем более что, надо признать, немало общего между ними. Были боги целители-костоправы и бесы были такими. Были бесы бабники и, скажем так, разгильдяи, и боги были такие. Среди тех и других были и златоусты, и заратустры. И те, и другие в бубен бить обожали, округу дикими звуками оглашая, звонко забубённо шаманили. И бесы, и боги, товарищи по счастью, существа, пожившие и состоявшиеся, глядя на людей свысока, своим бессмертьем бравируя, по краю бездны на глазах всего честного народа подлунного кичливо прохаживаются. И так далее и подобное этому (каждый список может дополнить) до бесконечности, не человеку, но богам и бесам отчётливо внятной. В тайне от неё, потихоньку пигмалионствуя, сочинял сценарий будущей встречи. Начало было прекрасным. Крестообразно концертно руки раскинув, ожидал её выхода. Но дальше дело не шло. Здесь уместно было бы спеть, к примеру, арию духа истории – не только её, но и соседей с пустыней в придачу, ошеломляя, порадовать. Увы, ни петь, ни музыку сочинять не умел. Что умел? Диалоги. Таким было почти общее мнение, и он хотел ему верить, тем более что общее мнение было делом редчайшим, почти невозможным. Наверное, этим феноменом сам дух времени заправлял, а может, таким образом в изменчиво изнеженном мире он, дух времени, и проявлялся. Поговорить бы с ним, побеседовать за кофе, под рюмочку с закусочкой покалякать! Зачем? Чтобы с читателем было чем поделиться. Не прямо в лоб, конечно, мол так и так, вчера в ресторанчике на перепутье между горой и пустыней ужинал с духом времени. Друг другу были весьма интересны. Массовое ему до смерти надоело, только с подобными мне и встречается, желая узнать, почему, с какой стати со столбовой дороги сошли, переулками-закоулками тихо, вдали от света мира заунывно плетёмся. Аутсайдерство, говорит, вещь нескромная, хотя по нынешним временам каннибальским не слишком не очень опасная. Почему, спрашивает, не расширить бы вам горизонты, круг людей не раздвинуть? Не надоело одним и тем же маршрутом еженедельно? Может, стоит, пораньше выехав, ещё куда-то заехать? – Конечно, не мне маршруты новые предлагать, я с городом не слишком знаком. – А чем нынешний не хорош? – Хорош, но, как бы это сказать, не достаточен. – Чем мерять? Линейкой? Весами? Предъявите мерило! – Скажете тоже! Сами всё знаете! – Знаю. Потому и допытываюсь… – Извините, что перебил. Только для вашего блага: всё равно эту фразу закончить вы не сумеете, вмешался, использовал положение, чтобы не оконфузились. А то писатель, а фразу закончить не может. – Позвольте мне самому решать заканчивать фразы или многоточия ставить. – Ну, ну, не кипятитесь. Позвольте лучше татуировочку предложить. – Что? Спятили?! Я не папуас! – Потому и предлагаю. Папуасы давно с этим покончили. – Значит с этого момента я папуас, – и чтобы глупейший разговор прекратить, заливисто, голову забрасывая назад, расхохотался. Долго сидели. Не слишком предметно о том, о сём, обо всём на свете калякали. О чём ещё прикажете с эфемерностью толковать? Сказать откровенно, пусть с долею хвастовства, кто ещё с духом времени за ужином вольно беседовал? С Богом многие говорили. С дьяволом было ещё больше охотников. А вот с духом времени, относящимся к моногамности очень скептически, только он, писатель, на границе с пустыней живущий. Современникам, понятно, слабо, но даже великие, и те не решались. Рассказать ей? Не стоит. Может быть, когда-нибудь, ведь всё куда-то течёт, по большей части совершенно бесцельно, но пока не выписалось, пока ни до какой определённости не дотекло, пока, конечно, не стоит. Ограничимся крестообразным простиранием рук, а далее – импровизация, соль, перец и диалоги по вкусу. Если они даже духу времени… Почему ему даже? Ей – даже, а не эфемерному духу. Она – мерило. А диалоги… Ими замечательно обустраивать пустоту, особенно тогда, когда в окне желтовато пустыня коричневеет устало и бесконечно. С ней не поговоришь, не поспоришь, не посудачишь. С самим собой, и прошлым, и будущим, человек всегда в диалоге, далеко не всегда честном, конечно, но это как у кого получается. В этом диалоге всякое можно наговорить, но лучше для душевного равновесия даже трудно прощаемое простить, только не надо грязной тряпкой по морде тому, кто не может ответить. Не исповедуя постоянство, тем не менее, женщин, душа которых, как дверь, вмиг заветным ключом открывалась, он быстро стал избегать. Все отношения – лишь одно исключение – были спринтом, который в какой-то момент начал его тяготить. Тогда исключение и явилось, даже жить стали вместе. И зря. Как-то, не ведая, что творит, с пола поднял листок. Не заметила, что обронила, или это знак судьба посылала. Жизнь ведь бывает слепо нелепа, судьба всегда осмысленно зряча. Буквы на листке, как назло, были в ужасно банальную рифму – совершенно любовную и по всем признакам не о нём. Вообще, о нём – был убеждён – если и писать, исключительно прозу, всего лучше фельетоны-памфлеты, жанр исчезнувший, к сожалению, одним словом, сатиру, злую, ехидную, слегка простоватую. Больше с ней в постель не ложился: брезглив. Заплатив за три месяца вперёд за квартиру, не сказав ни слова, исчез, и, в телекоридорах, узких и бесконечных, наткнувшись, отвернулся, неуклюже сделав вид, что не заметил. С того момента стихи писать перестал, вспомнив мудрое напутствие первого издателя своего: стихи не переписывай прозой, прямо прозу пиши. Минерва на это мудрствование глумливенько улыбнулась, но тогда воспринял очень серьёзно. А себя, запоем стихи сочинявшего, вспоминал с улыбкой слегка снисходительной, будто похлопывая по плечу. Себя прошлого осознавать собой вовсе не просто. Вот и относишься без почтения, панибратски. Нынешнего его в иные минуты пустыня неотвратимо манила в незапятнанно незапамятные времена: пещера, молитвы, акриды, еду вороны носят, ручной лев, лапу которому излечил, от дикого зверья охраняет, змея по ночам тёмные поверья на ухо нашёптывает. Только как акрид тех ловить, тем более ими питаться? Чем льва несчастного вылечить? Как воронам дать знать о себе? Что делать с поверьями, нашёптанными змеёй, в занимательные истории перелагать? Вопросы от пустынных времён настырно отваживали: как ни жаль, он с этими временами не сочетался. Оставалось, глядя в окно, о них тосковать в ожидании, что это плоды принесёт, лягут слова на бумагу, точней, на экране появятся, затем сложится книжка, её будут хвалить и ругать, пока сценарий телевизор не купит, искромсает, и льва, и ворон, и акрид выбросит на фиг, из него вытрясет душу, за что заплатит прилично: души в цене, никакой Мефистофель не сунется, инфернальненькому не по карману! Всё равно пустыня манила. Только там душа могла, отделившись от тела, елозящего по песку в поисках пропитания, взлететь, сперва бабочкой покружиться, затем тонкой птицею воспарить и лететь-лететь, не зная усталости в нежном голубоватом покое. А накружившись и налетавшись, вспомнить о бренном, не достохвально брошенном на песке, и, содрогнувшись от содеянного, в плоть ещё тёплую воротиться: её до возвращения души от бесов ангелы светлоокие охраняли. Но если в кои веки дождь случится в пустыне, всё смывающим потопом живое в никуда уносящим, дивясь чуду и горю великому, ветер, а вслед за ним всё живое, сумевшее уцелеть, возгласят аллилуйя.
опубликованные в журнале «Новая Литература» в июле 2021 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 4. 4 5. 5 6. 6 |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Платный прием эндокринолога: цены на услуги врачa эндокринологу. |

