Лачин
ИнтервьюНа чтение потребуется 50 минут | Скачать: Опубликовано редактором: Вероника Вебер, 20.10.2014
Оглавление 5. Литинститут и цензура 6. Православие, мат, Москва и москвичи 7. Любимые писатели Православие, мат, Москва и москвичи
Лачин:
Порою раздаются голоса, что не православный – не русский. Считаете ли вы православие неотъемлемой частью русского национального самосознания? И является ли принятие Россией именно православия (а не, скажем, католицизма) благодеянием для народа? Или однозначного ответа на этот вопрос нет? Если нет, то нет у вас лично или точный ответ вообще вряд ли возможен?
Игорь Якушко:
Я бы не стал прислушиваться к этим голосам: они принадлежат либо дуракам, либо провокаторам. Гораздо корректнее для определения русскости было бы взять язык, на котором думает и общается человек. Его отношение к единству русской земли и культуры. Миролюбие. Понимание справедливости. Готовность к самопожертвованию. Степень принятия коллективизма. Инертность, своеволие, отношение к предкам, педагогические воззрения. В общем, много чего следует принять во внимание, прежде чем говорить о вероисповедании. Это во-первых. А во-вторых, люди ведь делятся не только на православных, католиков и протестантов. Бывают ещё мусульмане, буддисты, иудаисты. А ещё есть совершенно особая категория: если те верят в то, что Бог есть, то эти верят в то, что Бога нет. Не говоря уже о приверженцах всяческих промежуточных философий. А принятие Россией именно православия, если иметь в виду крещение Руси, является для народа благодеянием в той же мере, в какой было последовавшее за этим объединение русских земель в обще государство. Хорошо это или плохо? Да, наверное, хорошо, раз мы, русские, до сих пор есть, и не только есть, а – о-го-го, какие! Впрочем, я вполне допускаю, что на месте православия объединительной силой могла бы выступить и другая религия. Но Владимир Святославич выбрал именно православие. Значит, были у него на то причины. С тех пор прошла уже тысяча лет, и я думаю, было бы странно, если бы православие не стало частью русского национального самосознания. Стало, стало, хотим мы этого или нет. Однако это не мешает быть русским любому, кто говорит и думает по-русски и разделяет хотя бы перечисленные мной только что ценности, не включая православное вероисповедание. В этом смысле меня раздражает подловатый термин «русскоязычный» в отношении национального вопроса. Такое ощущение, что он придуман для того, чтобы по политическим мотивам избегать слова, имеющего тут истинное значение – русский. Поэтому я настаиваю, что когда вы слышите о дискриминации «русскоязычных» где-либо – в Прибалтике, на Украине, на Кавказе – знайте, вас пытаются ввести в заблуждение, рассказывая о бедах каких-то там «русскоязычных». Нет никаких «русскоязычных», это наших бьют.
Лачин:
Имеет ли нецензурная лексика право на существование в литературе? Печатать ли её целиком, или с отточиями, пропущенными буквами, или заменять слова многоточиями, или лучше вообще не печатать?
Игорь Якушко:
Мы уже с вами как-то касались этого вопроса, и я могу лишь повторить сказанное однажды: печатать нужно то и так, что и как не стыдно показать своим детям. Теперь скажу, может быть, чуть более подробно. Когда я учился на филологическом факультете родного института, профессор русского языка предупредил нас на одной из лекций: «Мы с вами специалисты, и нас не должно смущать никакое из существующих в языке явлений. Брань, арго и мат присутствуют в нашем языке, и мы будем изучать их как специалисты. И нечего тут смущаться. А то будете потом говорить, что Пеньковский на лекциях матом ругался». С тех пор я отношусь к мату спокойно, и даже самая распоследняя грязь в печатном виде меня не смущает. Но вот что интересно. Знаете, что отличает интеллигента от обычного человека? Это, кажется, анекдот такой был, но очень точно там показана суть вопроса. Если в присутствии интеллигента ругаются матом, то он краснеет. Так вот, доктор филологических наук, пушкинист, педагог-просветитель Александр Борисович Пеньковский был интеллигентом. На своих лекциях по русскому мату он не произнёс ни одного грубого слова. Понимаете, Лачин, у всех нас – и у меня, и у вас, и у всех дорогих нам с вами людей, и у всех, кого мы не любим тоже, у всех имеются в животе кишки. Нам ведь об этом хорошо известно, не правда ли? Однако обнимая любимую женщину, беседуя друг с другом об умных вещах, протягивая руку для знакомства, мы не держим этого факта в голове. И уж тем более не рисуем себе картин, с ним связанных. Для этого есть специалисты, целыми днями копающиеся в малоприятном, причём, для нашего же блага. И о кишках мы вспоминаем только тогда, когда, как говорится, приспичит. Точно так же и с матом: без него можно обойтись всегда, даже несмотря на то, что он есть в этом мире. И тот, кто опасается пойти против художественной правды, лишая своего литературного героя возможности смачно выругаться в критической ситуации, вынуждает себя вслед за этим присыпать матерком и авторскую речь, а в конечном итоге уже не может обойтись без толики дерьмеца даже в самой безобидной тематике. Меняется сам образ мыслей, а вместе с ним искажается и личность. А ради чего, спрашивается? Вот почему матерщина в литературном произведении напоминает мне болезненное пристрастие к физиологии. Например, описывает некий автор общение двух люмпенов и использованием нецензурной лексики, и вдруг незаметно переходит к описанию тошнотворных физиологических подробностей их организмов, скрытых под слоем одежды и плоти. Для чего? А просто не может по-другому. И это его беда как автора, и моя проблема как редактора. Если нам в журнале приходится публиковать текст с нецензурной лексикой, то мы уже несколько лет не печатаем её целиком, а заменяем отточиями некоторые буквы в слове, так, чтобы было понятно, какое слово употребил автор. Отказывать в публикации исключительно из-за мата приходится редко. Это надо быть своеобразным гурманом, чтобы создавать подобные произведения. Тоже ведь явление! Впрочем, на поверку всегда малоинтересное.
Лачин:
Как вам кажется Москва? Является ли она средоточием наиболее умных и образованных россиян? В частности, в литературном отношении? Отличаются ли москвичи в целом от остальной страны, и если да, то в лучшую или худшую сторону? Или однозначно об этом сказать нельзя?
Игорь Якушко:
Мне в Москве неуютно. Слишком она громадная, слишком мелким в таких масштабах кажется человек. Хотя, не спорю, полюбоваться есть чем, и кажется, всей жизни не хватит, чтобы обойти все её музеи, интересные места, посмотреть виды, забраться куда-нибудь. Даже чисто статистически, при такой плотности и таком количестве населения Москва была бы сосредоточием. Но ведь это ещё и столица, и туда стремятся очень многие из тех, кто чувствует в себе силы забраться как можно выше. Поэтому однозначно можно сказать, что да, и средоточием ума и образованности является, и в литературном отношении в том числе. Другой вопрос, что и низости там довольно – больше, чем в любом другом русском городе. Всего много, слишком много всего. И москвичи, естественно, отличаются от остального народа, причём заметно. Из окружающих городов их, по-моему, нигде не любят – наверное, за то, что в большинстве своём они «умеют жить», то есть устраиваться в жизни, знают себе цену, зазнаются. Впрочем, в Москве настолько высокая конкуренция между людьми, такая активная жизнь, что, наверное, они во многом имеют на это право, имеют право быть другими и осознавать это. Да и можно ли им не быть другими, если они постоянно живут в страхе, что полстраны сейчас вот приедет к ним и отнимет у них их вкусную и жирную часть столичного пирога? Но с другой стороны, москвичи ведь, они носители той оригинальной русской интеллигентности, которую нечасто встретишь в других городах. Есть в них что-то такое… бардовское, что ли. Такая неизбывная светлая печаль во всём, романтичность такая и устойчивость, уверенность в своей правоте... Впрочем, всех под одну гребёнку всё равно не причешешь. Москвичи потомственные и москвичи в первом поколении, например – это совершенно разные люди. Бедные и богатые москвичи отличаются друг от друга куда сильнее, чем, например, бедные и богатые владимирцы. Ну и так далее. В конечном итоге, всё это ведь от личного опыта зависит. С кем встретишься, с кем сдружишься, с кем рассоришься. Так что всё это очень расплывчатая тема для разговора.
Оглавление 5. Литинститут и цензура 6. Православие, мат, Москва и москвичи 7. Любимые писатели |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
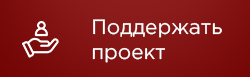 |
||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Отель novotel moscow centre москва novotel-moscow-city.ru. |

