Соломон Воложин
Цикл статейОпубликовано редактором: Игорь Якушко, 27.05.2007Оглавление 1. Предисловие 2. * Сартр 3. * Байрон * СартрЗанозой в моем уме засел Жан-Поль Сартр. Мне попалась маленькая книжечка его новелл. Одну из них я читал когда-то раньше – “Герострат”. Но тогда у меня еще не было мнения, что экзистенциализм, – если примерить к нему мою Синусоиду идеалов, – располагать надо на нижнем вылете вон с Синусоиды (тогда и этой моей Синусоиды еще для меня не существовало). Так если настоящего, всем известного из истории, Герострата таки безусловно можно “поместить” на нижний вылет, то с сартровским дело туго. У Сартра же мерзейший тип выведен – Поль Гильбер. Ничего героического. Хотел наубивать много людей, а еле одного сумел. Да еще и неопределенно как-то, сумел ли нанести смертельное ранение единственному-то. Хотел убить потом себя – не смог.
“Я быстро вложил ствол револьвера себе в рот и с силой прикусил его; но я не смог выстрелить, даже не смог положить палец на спуск. Все поглотила тишина”.
А это его физиологическое какое-то неприятие бесчеловечности своего замысла.
“Я взял револьвер, пачку писем [объяснение своих мотивов] и вышел... Чувствовал я себя очень нехорошо, руки мои были холодны, голова, казалось, лопалась от прилива крови, а глаза неприятно слезились, охваченные каким-то непонятным зудом. Я стал разглядывать магазины. Гостиница “Эколь”, лавка канцелярских принадлежностей, где я покупал свои карандаши, я не мог их узнать. Я спрашивал себя: “Что это за улица?””
Он не выдержал и отложил убийство.
“Три дня я сидел дома без пищи и сна. Я запер ставни и не осмеливался ни подойти к окну, ни зажечь свет...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ночью у меня начались видения: пальмы, струящиеся воды, лиловый купол неба. Жажды я не испытывал, ибо время от времени пил из-под крана умывальника. [По-человечески, из чашки – это уже не для него.] Но я был голоден...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наступил день. Голода я больше не чувствовал, но начал страшно потеть: рубашка моя насквозь промокла...”
Не трусость по поводу последствий, а именно необычность собственная на фоне других, обычных, его мучает. И место, где он засел, убегая от преследователей после выстрелов, – уборная в кафе. Все – очень непрезентабельно.
Может ли автор, выводящий такого – мизерного – герострата, исповедовать идеал подлинного бытия, заключающегося (если афоризмом) в утверждении, что настоящий человек несвободен от своей свободы?
Герострат Сартра, оказался на деле несвободным от пресловутых общечеловеческих норм. Его герой – олицетворение лишь попытки быть свободным, попытки неудачной. И меня так и подмывает вывести, что раз Сартр так авторски негативно показал своего героя (прямо антигерой получился), то идеал Сартра таки не герострат, а Герострат.
И тогда заноза из моего ума выскочит.
Все это хорошо. Да как быть с тем, что от первого лица написана новелла? Ненавидит людей и себя, не сумевшего эту ненависть хорошо проявить, персонаж, этот Поль Гильбер.
А Сартр?
А Сартр сделал так, что Поль Гильбер, этот “я”, написал отчет о себе уже после всего происшедшего.
“Когда мня схватили [написано где-то в середине повествования, когда еще читателю не известно, куда дело идет, к какому ужасу безобразному] и когда они поняли наконец, кто я, [не сумасшедший] они устроили мне страшную трепку... в комиссариате, они били меня в течение двух часов, начав с оплеух, потом били кулаками и выкручивали руки, затем содрали с меня штаны, в довершение всего швырнули мои очки на землю и, пока я, ползая на четвереньках, искал их, хохоча, пинали еще под зад”.
Я думал было разузнавать, отменена ли была уже смертная казнь во Франции в те годы, когда это написал Сартр, но передумал. Не важно. Была возможность преступнику написать тридцатистраничный (а обычного, не книжного, формата – пятнадцатистраничный) текст.
Ненависть Гильбера к своему телу, выразившаяся в отвратительном натурализме описания своей слабости, ненависть к своему телу, не давшему ему оказаться на уровне со своим духом, вполне годилась Сартру как идеал чистого духа, не отягощенного телом. Идеал человеконенавистничества к этой презренной людской массе.
Но мог ли антифашист Сартр иметь идеалом настоящего Герострата? – Мог. Потому что Сартр был против фашизма, скажем так, коллективистского.
“Я видел фотографии красивых скромных девушек, служанок, что убивали и грабили своих хозяек. Я видел их фотографии до и после. [А этот “я”, этот Поль Гильбер, – конторщик, как заявил он в своем внутреннем монологе, из которого состоит весь – кроме его письма-объяснения теракта – текст новеллы. Он не мог видеть фотографии “до”. Разве что их доставали – и достаточно часто – репортеры и печатали в газетах. Но вероятнее все же, что здесь мы слышим голос автора в словах героя.] До их сдержанные лица целомудренными цветами выступали из гордых чопорных ваз их пикейных воротничков. Они благоухали чистотой и доверчивой искренностью. У них были одинаковые скромные завивки. Но больше, чем их завитые волосы, воротнички, эти выражения позирующих фотографу были похожи на лица сестер; и сходство это было такого рода, что в сознании сразу всплывали понятия вроде кровных уз и фамильных корней. После... после их лица ослепительно пылали... И теперь они уже не были похожи друг на друга [подчеркнуто мною]”.
И не в том дело, что идеалом Сартра был преступник, а в том, что идеалом его был абсолютно свободный человек. И искусство, эта область преимущественно свободы (ибо функция его – испытание сокровенного мироотношения), давало Сартру, художнику все же, возможность своего идеала достигать. И потому опять его голос слышен вот в таких словах внутреннего монолога его главного героя:
“В зеркале, куда я иногда заглядывал [после написания письма о решении убить пять человек] , я с удовлетворением замечал изменения, которые происходили с моим лицом. Увеличились глаза, они почти поглотили все остальное. Под пенсне они стали черными и мягкими, и я вращал ими, как двумя белыми глобусами. Прекрасные глаза художника и убийцы!”
Хоть после совершения преступления, но Сартр своего героя сделал-таки художником. Кто как не художник мог написать столь психологически точное повествование? Несвобода, опутавшая Гильбера после преступления, сделала из него художника. А Сартр, бывший им изначально, мог исповедовать свой экстремистский идеал и не доходя до преступления и лишения свободы.
В Сартре горел идеал индивидуалистического, так сказать, фашизма. Да. Фашизма. Ибо что такое культ ничем не ограниченной свободы? – На общественно-политическом уровне это известный всем фашизм: когда супериндивидуалисты объединились для открытой смертельной борьбы с исконными коллективистами и вообще со всеми, кто не с ними, объединились для борьбы за мировое господство. А Сартру не по нутру любой коллективизм. Герострат древнегреческий все же сделал сам. Значит – годится ему для идеала. Его Поль Гильбер лишь намеревался все сделать сам. Не потянул. Значит – годится для того же идеала, но по принципу “от противного”.
Можно, правда, сказать, что Сартр тут не экзистенциалист, а простой реалист, что его бесстрашие в рассматривании человеческой низости, пытающейся – и безрезультатно – обрести в этой низости величие, есть просто бестенденциозность реалиста: вот такой, мол, мерзкий уникум, а я автор, не при чем.
При чем. Раз так любовно описал дух свободы и отказ от раскаяния в нем.
Поль Гильбер у Сартра, пожалуй, даже слишком, даже патологически, телесно слаб. Такими, наверно, видели фашисты-коллективисты выродков человеческого рода и уничтожали их во имя его чистоты.
Сартр это, наверно, подсознательно чувствовал и потому, в пику фашистам-коллективистам, создал и другие противоестественно аномальные типы человеческие и отнесся, авторски отнесся, к ним на этот раз “в лоб” позитивно. Я имею в виду два других рассказа в упомянутой книжице: “Комната” и “Интим”.
В “Комнате” героиня – Ева – безответно любит Пьера, сумасшедшего, боящегося выходить из своей комнаты. “Я ведь гонимый”, – говорит ей Пьер, хотя это неправда. Ева как бы иллюстрирует поговорку: любовь зла, полюбишь и козла.
“Но Пьер в ней не нуждался; Ева не могла предугадать, какой прием он ей окажет [после краткой отлучки из комнаты к посетившим ее родителям, уговаривающим бросить Пьера]. Она вдруг не без гордости подумала, что нет у нее больше места нигде. “Нормальные еще думают, что я одна из них. Но я и часа не могу пробыть с ними. Мне необходимо жить там, по ту сторону этой стены. Но там меня не ждут”.”
В ее любви перевешивает духовный элемент. Сумасшедший не только уже давным-давно не обладает ею, но видит в ней другую, наверно, свою когдатошнюю, – когда он еще был здоров, – любимую – какую-то Агату.
“Вещи эти принес в комнату Пьер, и только ему вещи открывали свое истинное лицо. Ева могла часами наблюдать за ними – с каким-то постоянным и злым упрямством они старались обмануть ее, неизменно поворачиваясь к ней так же, как к доктору Франшо или господину Дарбеда, – лишь своей внешностью. “Хотя я вижу их не совсем такими, как мой отец, – с тревогой думала она. – Не может быть, чтобы я видела их так же, как и он” [Пьер].”
Ева теперь любит Пьера за темную силу, которая завладела тем. (А на того нападают какие-то статуи.)
“ “Сейчас начнется”, – подумала она. Ей захотелось обнять Пьера.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...и Ева поняла, что статуи уже вошли в комнату...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Она ощутила легкую щекотку, какое-то стеснение в правом плече и в боку. Ее тело инстинктивно отклонилось влево, как бы стремясь увильнуть от неприятного прикосновения, пропустить тяжелый и неуклюжий предмет. Неожиданно скрипнула половица, и у нее возникло безумное желание открыть глаза, посмотреть направо, разгоняя рукой воздух.
Она не шелохнулась; глаза ее оставались закрытыми, и терпкая радость заставила ее содрогнуться. “И мне тоже страшно”, – подумала она. Вся ее жизнь укрывалась сейчас справа от нее. Не открывая глаз, она наклонилась в сторону Пьера. Стоило ей сделать совсем небольшое усилие, и она впервые проникла бы в этот трагический мир. “Я боюсь статуй”, – думала она. Это было сильное и слепое утверждение, это были чары...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вдруг жуткий крик холодом сковал ее тело. “Они дотронулись до него”. Она открыла глаза – Пьер обхватил голову руками, он часто дышал. Ева почувствовала себя совершенно выложившейся. “Игра, – с сожалением думала она, – это была лишь игра, ни на мгновение я искренне не верила во все это. И все это время он по-настоящему страдал”.”
Но материальный элемент в ее любви у нее не полностью пропал. Она не хочет своего возлюбленного отдавать ходу болезни до такой ее стадии, когда та изуродует его лицо:
“...один год, одна зима, одна весна, одно лето, начало еще одной осени. И наступит день, когда черты его лица исказятся, челюсть отвиснет и он с трудом будет приоткрывать слезящиеся глаза. Ева склонилась к руке Пьера и коснулась ее губами: “Но я убью тебя раньше”.”
На этих словах новелла кончается. Ева стала вполне демонисткой. И автор, мнится, ей сочувствует не только эстетически, так сказать, но и идейно: все – во имя любви. Не зря ж он так закончил новеллу?
Не менее странна и героиня в “Интиме”. У этой – противоестественное неприятие половых сношений с мужчинами. Она вышла замуж за импотента и наслаждение находит в самоудовлетворении, провоцируемом ласканием немощного члена своего мужа.
Она сделала попытку, противоположную евиной исключительности. Она попыталась стать как большинство – находить радость в нормальных половых отношениях: ушла от мужа, пришла к давно дожидавшемуся ее потенциальному любовнику, Пьеру, отдалась ему. Но... получила такой большой заряд отрицательных эмоций, что сбежала от любовника и вернулась к мужу, чувствуя теперь своеобразную душевную и физическую гармонию своих с ним отношений. Духовное опять очень весомо и в этом случае:
“– Давай ляжем, – плача, предложила она, – я могу остаться до утра.
Он легли. Люлю сотрясалась в отчаянных рыданиях, ведь она вновь обрела свою комнату, свою чудесную чистую постель и красный отсвет в зеркале...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Неправда [обманывает она себя], что он импотент, он просто чистый, чистый – и чуть-чуть лентяй”. Она улыбнулась сквозь слезы и поцеловала его пониже подбородка”.
Скажете, я отождествил идеал автора с идеалом персонажа? – Нет.
Процитированный отрывок – это из сцены последнего прощания Люлю с Анри. А кончается новелла разговором Пьера с Риреттой, подругой Люлю. Риретта – чрезвычайно обычная и прозаическая особа. Во имя обычности она свела Пьера с Люлю. Страсть как таковая ее пугала. Риретта нарочно сделана такой Сартром. Из разговора ее с Пьером мы узнаем, что Люлю от Пьера сбежала и вернулась к Анри. И Риретту, эту радетельницу обычности... “почему-то ее охватило чувство горького сожаления”. Этими словами новеллу Сартр и закончил. Он – не Риретта. Он – воитель исключительности. Если Риретта сожалеет, значит, Сартр удовлетворен. Риретта, на взгляд экзистенциалиста, представитель бездуховной толпы. Себя же экзистенциалист бездуховным ни за что не сочтет.
Я вообще удивляюсь, как часто отказывают в духовности идеалам, традиционно признаваемым низкими. И даже иные наши философы грешны в этом. Наверно, советскость в них еще не вся выветрилась. Даже у ренегатов марксизма-ленинизма. Одного такого я недавно урезонил за слова о бездуховности Ницше, и он смущенно промолчал в ответ. Оглавление 1. Предисловие 2. * Сартр 3. * Байрон |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
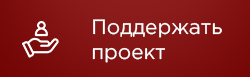 |
||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Самая подробная информация иссечение анальной трещины москва на сайте. |

