Сергей Петров
Статья
 На чтение потребуется 18 минут | Цитата | Скачать в полном объёме: doc, fb2, rtf, txt, pdf

|
Язык
| Числительное «пять» | «Пясть» (кулак, сжатая кисть руки) |
Др.-английский | fif | fyst |
Др.-саксонский | fif | fust |
Др.-фризский | fif | fest |
Др.-верхне-нем. | funf | fust |
Прагерманский | *fimfe | *funhstiz |
Все они восходят к праиндоевропейской основе *penkwe- «пять, пятерня», другими словами, основа у обоих этимонов общая, – «пять» и «пясть», – хотя сама эта гипотетическая форма не бесспорная.
В германских и славянских логическая связь «пять-пясть» очевидна. Более того, связь в них такая, что можно говорить об общем источнике их происхождения. Однако в других языках группы «сатем» (фарси, санскрит) связь «панч» и «мушт(и)» (пять-кулак) менее выражена, хотя также имеется. При всё ещё схожей фонетике изначальный общий смысл в них уже не просматривается.
Таким образом, лексема «пять» может быть связана с корнем «-я-» в элементе «-ять», который во «взять», «приять», «отнять», «приять», «объять» и др., т. е. пять – это *п(о)ять, взять. Тот же корень, но с назальной вставкой, например, в словах обнять, отнять, поднять, понять и др.
Вернёмся к началу счёта, один. По теории чередования матерей чтения звук [о] произошёл из слогового [в], то есть из согласного и следующего за ним гласного: [ва], [ве], [ви], [во] или [въ], как мы видим в, например, соль < *сварь (возможно, *изварь. Выпаривание, вываривание, – основной способ получения соли. Она так и называется, поваренная), обоняние < об(в)оняние (в котором слоговой [в] выпал, оставив лишь огласовку [о]), сосулька < *свесулька (слово происходит именно от понятия «свисать», а не от «сосать»), отчизна < вотчина (отчий, отец образованы от понятия «водить», *водчий, *водец).
Почему бы, следовательно, не допустить, что в лексеме один в начале также присутствовал слоговой [в]? Самое простое обозначение числа один – поднятый кверху указательный палец, и этот же палец, повёрнутый горизонтально, выполняет роль указателя направления. Ведущий указывает ведомым направление движения перстом (кстати, в связи с перстом, не мешало бы пересмотреть происхождение герм. форм числительного «первый»: first, fuirst, furist, fyrstr, første, ferist, vorste, которые якобы от прагерм. осн. *furista-, которая традиционно не содержит никакого смысла, но почему не от др.-рус. пьрстъ или ст.-слав. прьстъ ‘перст’?). Один, следовательно, это *ведин или *водин, тот, кто ведёт, вождь.
Мы не заявляем, что в названии числительного один содержится имя германо-скандинавского бога Одина. Достаточно предположить, что один-водин – это любой вождь или ведущий. Впрочем, и имя самого Одина вполне могло возникнуть по той же логике, водин > Один (о чём говорят его варианты с сохранившимся слоговым «в» – др.-анг. Woden, др.-в.-н. Wuotan, др.-сканд. Óðinn, из прагерм. *Wōđanaz или *Wōđinaz), – что даёт основания полагать, что корни этого имени следует искать в славянских языках.
Два. Ныне эта лексема односложная, – слоговая структура в ней ССV (где С согласная, а V гласная), – как и в лексеме пять (СVС). Однако в лексеме пять нам уже удалось обнаружить, как нам представляется, исчезнувший слог «по», *п(о)ять, СVVС. Почему бы и здесь не предположить полногласие в первом согласном ССV, и получить СVСV, *дава ([дъва < дʌва] по закону А. Гавлика), тем более что «шва» в др.-русск. дъва закономерно перешёл в «о», то есть огласовка первого слога в любом случае была не редуцированная?
Три. В ряде индоевропейских языков, в частности, в германских, начальный звук [t] в когнате «три» озвончается до [d] или [þ] (др.-анг. þreo, др.-сакс. thria, др.-фриз. thre, ср.-голл. и голл. drie, др.-в.-нем. dri, нем. drei, др.-норв. þrir, от прагерм. *thrijiz). Здесь мы видим все основания предположить начальный звонкий [d], *дри, а из схемы «согласная + согласная + гласная» (ССV) вывести полногласную схему «согласная + гласная + согласная + гласная» (СVСV), дары. В предударной позиции гласный первого слога мог редуцироваться до нейтрального: [три < търы < дъры < дʌры].
Итак, один, два, три – водин (вождь) давал дары.
Четыре. В этом числительном сейчас три слога, и здесь можно наблюдать связь с предыдущим числительным, три, поскольку конечные два слога -тыре фактически воспроизводят его название, че-т(ъ)ри.
Что даёт нам основание считать, что в четыре присутствует три? Если посмотреть этимологию лексемы полтора у Фасмера, то мы прочтём, что это слово происходит из гипотетического «*роlъ vъtora "половина второго" [Фасмер, т. III, с. 319, «полтора»]. Однако, как ни складывай, полтора – это не половина двух, полтора – это ровно половина трёх, и никаких (в)тора в полтора нет. Тор в полтора и есть три. Полтора – это ровно 1,5, но никак не *пол-двух и не *пол-втора, ибо *пол-двух это один. Это заблуждение выходит из рамок лингвистики и вносит путаницу в арифметику. Вот как важно понимать истинный смысл слова! Полтора – пол тора, половина трёх.
Кроме этого, само порядковое числительное второй содержит в себе полногласный вариант три и означает «у трёх», «у тора», то есть, тот, кто предшествует трём. Что такое тор? Вероятно, в мифологическом смысле примерно то же, что и один-водин, хотя, опять же, в настоящей статье мы не касаемся имён богов. Мы считаем, что в названии числительного четыре присутствует название предыдущего числительного три, а начальное че- могло образоваться от указательного местоимения те. Четыре – те дары.
Пять см. выше, *поять.
Шесть. Не во всех индоевропейских языках в этом числительном воспроизводится начальная [ʃ], часто, особенно в языках группы «кентум» на её месте [s], что даёт нам основание предположить, что шесть могло иметь форму *сесть, а в нашем контексте форму глагола съесть.
Семь. Лишь в восточнославянских языках это числительное имеет формы сiм (род. пад. семи, укр.), сем (блр.) и семь (рус.). Во всех остальных славянских в этом числительном присутствует звук [d] (болг. се́дем, се́дъм, серб. и хорв. седам и sedam, словен. sẹ́dǝm, чеш. sedm, слвц. sedem, польск. siedm, в.-луж. sedom, sydom, н.-луж. sedym, полаб. sedm), который из восточнославянских только в русском появляется при переходе из разряда количественных в порядковые, седьмой. Звук [д] в русском семь выпал, но он там имелся, что и обнаруживает порядковая форма. Это даёт нам основание полагать, что числительное се(д)мь (от ст.-слав. седмь) могло иметь форму глагола, да ещё и с местоимением «мы», седе мы. Лексема суббота (корень шин-бет-тав, Ш.Б.Т.), шаббат, седьмой день недели у евреев, день отдыха, происходит от глагола со значением сидеть (с корнем йуд-шин-бет, Й.Ш.Б.,) яшав, как, вероятно, и само число семь (с корнем шин-бет-айн, Й.Ш. ʕ.,), шева [8, Штейнберг, с. 474, «שבע»].
Восемь. О числительном восемь Фасмер в своём словаре пишет, что «в и.-е. *oḱtōu "8" видят форму дв. ч. от *oketā "борона", первонач. "четырех(зубая)"» [Фасмер, т. I, с. 356, «восемь»]. По его логике сперва возникла лексема, обозначающая четырёхзубую борону, затем две таких бороны соединили, а лишь потом в и.-е. возникло реконструируемое *oḱtō(u) "восемь". По мнению Фасмера, до того, как придумали четырёхзубую борону и соединили две в одну, числительного восемь не существовало.
Подобные этимологии строятся на домыслах. Как (пра)индоевропейцы считали количество зубьев в бороне? И как вообще считали после семи до изобретения четырёхзубой бороны? Какие предметы соединяли древние славяне для создания лексем «девять» и «десять»? Или борону соединяли только в случае с «восемью»? Фасмер говорит, что «…праслав. *osmъ "восемь" – новообразование от osmъ "восьмой"» [там же]. Иначе говоря, он считает, что количественное числительное возникло из порядкового, тогда как все другие порядковые числительные происходят от количественных.
Мы считаем, что в русском восемь чередования матерей чтения, то есть перехода слогового [в] в [о] не произошло, в отличие от тех языков, в которых начальный слоговой [в] выпал (как в *водин>один), – лит. aštuonì, лтш. astuôn̨i, др.-инд. aṣṭā́u, aṣṭā́, авест. ašta, арм. ut', греч. ὀκτώ, лат. octō, гот. ahtáu, ирл. ocht, тохар. okadh, болг. о́съм, сербохорв. о̏сам, словен. ósem, чеш. osm, слвц. osem, польск. ośm. В русском сохранилась более древняя форма, без выпадения начального слогового звука [в]. И есть причина, по которой начальный слоговой звук [в] не выпал, – это был предлог в, во сень, т.е. в сень, в тень.
Следовательно, четыре, пять, шесть, семь, восемь – те дары поять, съесть седе мы во сень.
Девять и десять. Гипотетическая индоевропейская основа слова девять *neun при индоевропейских формах (ср.-в-нем. neghen, голл. negen, др.-в-нем. niun, нем. neun, готтск. niun, др.-анг. nigen, др.-сакс. nigun, др.-фриз. niugun, др.-ирл. noin, валлийск. naw, др.-норв. niu, шведск. nio, а также лат. novem, греч. ennea, санскр. и авест. nava, алб. nende) более чем убедительна. Однако в славянско-балтийских формах этого числительного (ц.-слав. девети, укр. де́в'ять, ст.-слав. девѩть, болг. де́вет, сербохорв. де̏ве̑т, словен. devȇt, чеш. devět, слвц. devät', польск. dziewięć, в.-луж. dźewjeć, н.-луж. źewjeś, лит. devynì, лтш. devin̨i, devīn̨i) вместо ожидаемой *невять или *nevyni мы встречаем диссимилированные формы, в которых начальный [н] везде единообразно перешёл в [д]. Девять попало в индоевропейские языки Западной Европы и Азии когда переход [н > д], а десять лишь после перехода [н > д] (др.-инд. dasa, авест. dasa, арм. tasn, греч. deka, лат. decem, лит. dešimt, др.-ирл. deich, брет. dek, валлийск. deg, алб. djetu, др.-анг. ten, др.-в.-нем. zehan, готтск. taihun).
Тот же самый процесс произошёл, по-видимому, и в десять, причём, по нашей гипотезе это коснулось обоих числительных, *невять (девять) и *несять (десять), а в нашем контексте не въять и не съять.
Итак, десять русских числительных, – «один», «два», «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять», «десять», – дают нам... [...]
Библиография
- Интернет-ресурс https://www.britannica.com/topic/satem-language-group и https://www.britannica.com/topic/centum-language-group (доступ 04.01.2021);
- Абрашкин А. А. О происхождении русских числительных //Известия вузов. ПНД. 2016. Т. 24, вып. 5. cтр. 84-91;
- Интернет-ресурс Online Etymology Dictionary. https://www.etymonline.com (доступ 04.01.2021);
- Gudschinsky S. C. The ABCs of lexicostatistics (glottochronology), Word, Vol. 12, 1956. – pp. 612-623;
- Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. – М.: Academia, 2005. – 432 c;
- Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – М.: Просвещение, 1964. – 464 с;
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка» (Russisches etymologisches Wörterbuch). В 4-х томах. – М. Прогресс, 1986-87;
- Штейнберг О. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Том 1. Вильна, 1878. – 275 с.

Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы.
Литературные конкурсы
Биографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:

Только для статусных персон
Отзывы о журнале «Новая Литература»:
03.06.2025
Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент.
03.06.2025
Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде.
20.04.2025
Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием)

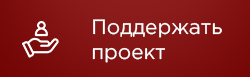
Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000
Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387
Согласие на обработку персональных данных
Напечатать принт на футболке: печать на футболках. . Ирригография кишечника.

