Михаил Ковсан
Рассказ
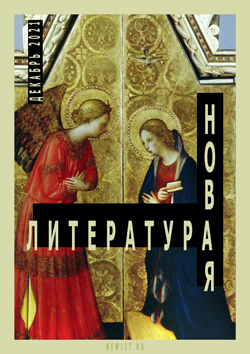 На чтение потребуется 36 минут | Цитата | Подписаться на журнал

Чёрная пыль над Чернобылем чёрная быль чёрная боль червь полынный плод знанья ядущий черно́ неприрученный век порочно грядущий чернь обреченно чернеет пречистая голь.
Сад затворенный – сестра, невеста моя! Затворенный источник, родник запечатанный. (Песнь песней 4:12).
Был бы ты братом мне, сосавшим грудь моей матери, на улице встретив, тебя бы я целовала, и меня не позорили. (Песнь песней 8:1).
Вертолёт завибрировал, под ногами пугающе задрожало, дверь, зловестуя, завизжав, не открылась, что-то скрипнуло, всё вместе взошло, поднялось, взметнулось, постояв, осмотревшись, двинулось, в стороне оставляя чудовище почище Везувия, которое даже птицы, как говорили, настороженно огибали. Внутри было тесно, как в «Запорожце», который прозвали горбатым, и страшно, как на мотоцикле по осевой: то ли вместе с общим движением, то ли против него. Как кому заблагорассудится воспринять. И с высоты не места, но времени – из-за неспособности своим слогом сказать:
Разве что с пеной не согласиться. Бела-то, бела. Но «пена» рыхлость приводит. Нет! Напротив! Категорически протестую! А брата с сестрой пытаюсь чётче представить. Не получается. Расплываются. В белое двухголовое сиамское пятно превращаясь. Так он-она меня ошарашили? Или чёрная быль повлияла?
На море, мелком, холодном и скучном, куда на всё лето сослали – вызвали бабушку, не слишком строгим стражем приставив; в августе пятнадцать стукнуло – я всё время те несколько весенних дней вспоминал, так и сяк события и впечатления настырно ворочая. До истины докопаться? Какая там истина! Ясно в мозги уложить? Какая там ясность! Может, потому упрямо ворочал, что новых событий не было вовсе и новые впечатления не являлись. Откуда им взяться, если море мелкое и холодное и всё время под негласным дружелюбным надзором? Родители были заняты катастрофой: отец очень близко, поначалу совсем накоротке, через два года он умер; мать подальше, папу на десять лет пережила.
Так размышлял я тогда. Теперь, спустя жизни огромность вспоминаю свои размышления. Может, когда будет цепь замыкаться, и эти воспоминания о размышлениях буду припоминать? Зачем? Той весной и тем летом немало душ юных и тел в не рутинную обстановку попало. Последствия? Как всегда, и хорошие, и плохие. Кому пришло в голову назвать так жутко пророчески? Осознала повинной себя та голова? Отсёк ли повинную меч? Хоть в пророческом прошлом. Категория времени есть и такая. Глагол в прошедшем времени о событии в будущем.
Просыпаешься, и, глаза ещё не открыв: росистая прохлада из сада, во всё окно – солнце сквозь лёгкую занавеску, птичий щебет и лепет стрекоз – сквозь тишину. Не только ночь украинская тиха, но и утро – славно и безмятежно. И так бы лежать, блаженно не думая ни о чём, глаз не открывая, но мысли серыми мышами из нор вылезают – о скучном дне бесконечном, сами собой глаза открываются: вокруг всё чужое, на фиг не нужное. Тут как тут еретическое: за две минуты, не мывшись, собраться, автобус до станции каждые пятнадцать минут, в поезд вскочить проходящий – других не бывает, вечером – дома. Пусть здесь ночь будет тиха, а утром – стрекозино-птичий лепет-и-щебет. Не хо-чу! Не же-ла-ю! И даром не надо! Но за первой мыслью – другая: увидев меня, мама в кресло молча обвиснет; папа из кресла выпрыгнет – громко перпендикулярно. Хорошо тем, у кого мысль одна. Хоть какая. Главное – только одна. Скверно, если их больше. Деться некуда. С кровати давно пора соскрипеть, из комнаты выползти. Днём, если нет дождя, вся жизнь во дворе. В комнате делать нечего. Со двора – только на речку, туда – огородом, так что река, полуболотная цвель, как бы двора продолжение. Во дворе – хозяйка, кот и собака, все одинаково молчаливые. Словом перекинуться не с кем. Вот, представляю. Сетка натянута, над ней не мячи, не воланы летают – слова. Первая мысль – ловишь ртом, второй, тут же пришедшей, отвергнута первая. Чем ловишь – никак не узнать. И это неважно, потому что пытаешься разобрать: кто ловит слово твоё и назад его, уже своим перекидывает. Белое за сеткой мелькает. Пытаешься сосредоточиться – разглядеть. Не получается. Тогда пытаешься понять, что за слово. И не выходит. Не горячее, не холодное. Без вкуса, без запаха. Как положено слову. Но – не звучащее, словно написано. И не видишь его – глаза ведь закрыты. Летает от белого через сетку, и от тебя к белому – иногда теннисно, стремительно и упруго, иногда – зависая воланно. Удивляешься: не надо бежать или подпрыгивать – что толку, нет ведь ракетки, да и руки подевались куда-то. Понимаешь: всё дело в слове, оно само выбрало тебя и за сеткой белого, совершенно тебе не знакомого. Теперь, когда к слову привык, новая мысль: кто там? Он или она? Хорошо бы – она. Но и он бы – неплохо. Лучше всего, чтобы то он, то она. Однако тогда о слове придётся тебе позаботиться: для него – слово одно, для неё – совершенно другое. Для него любое слово сгодится. Для неё – поосторожней, вылетит – не поймаешь. То, что над сеткой, неуловимо: само прилетает, само отлетает. Хотя сперва казалось, белое за сеткой его направляет. Вторая мысль: это не так, ведь ты слово не трогаешь, с чего бы белому к нему прикасаться? А почему бы ему не воплотиться в зримое, дышащее и прекрасное – мысль, побуждающая проснуться и свесить ноги в тапочки, забытые дома. Но эту догоняет другая: проснёшься – исчезнет и никогда не вернётся. Вот и решай: просыпаться, вставать? Хорошо быть Обломовым – Захара позвать, тот, хоть накосячив, но сделает, можно не подниматься, да и окончательно просыпаться не обязательно: жаль белое упускать, лучше сфокусироваться, сосредоточиться – и вот, белеет отчётливей, видится всё ясней. Белое – платье, из него в стороны – руки, вниз – ноги торчат, осталось – лицо, что трудней всего, хоть во сне, хоть наяву представить, вообразить. Наяву увидишь – через секунду, отвернувшись, забудешь. Значит, и наяву обязательно – представлять. Надо встать и одеться. Одетым – во двор. Но для этого вначале проснуться, с летающим словом и платьем с руками-ногами, но без лица, как ни жалко, расстаться. А может, всё это сон? Проснусь – и вот, уже вторник, и в школу тащиться. Пока не трогают, лучше спать продолжать.
Из тех дней, оттуда за мною нечто чудовищно бело-паучьи переплетённое: вместо ног – руки, те внутрь, вглубь проросли, вместо головы – наружу гриб раскрывается, в него жалом змеиным – язык, из подмышки ресницы дрожат и проблёскивают глазища. Из-под мышки крошки, сыра, вестимо, желтеют. Две стихии желают и не смеют слиться в одну, корячась и друг друга ломая. Люди мучились несовершенством своим? Человек, с замыслом Творца не соглашаясь, в паука обращался? Ныне всякое пишут. Телята с двумя головами. Пятиногие козы. Верить всему невозможно. Я и своей памяти доверяю не слишком.
Был понедельник. 28 апреля. Год 1986 от Рождества Христова, как я любил писать не в школьных тетрадях. Последний матч хоккейного чемпионата мира в Москве. Надо обыгрывать шведов. Последний период. Ничья. Звонок. Является папа. Хоккей он любит. Но сегодня он задержался. И вместо ожидаемого – немедленно к телевизору, он с мамой – в их комнату, дверь закрывая, то ли мне не мешать, то ли, чтобы я со шведами им жизнь портил не слишком. За пять минут до конца я ору – мы забили. 3:2. Ещё пять минут продержаться. Всё. Я ещё в телевизоре. Я ещё весь в хоккее. Мама выходит. Просит сделать потише. Мне надо звонить – поделиться. Но папа на телефоне. Позвонить мне не удалось. Словно Везувий Помпеи, родаки меня ошарашили. Под городом что-то случилось. Никто толком не знает, что именно. Но – страшно опасно. Для молодого организма – особенно. В папином институте случайно стало известно. Мне необходимо уехать. Папа отвезёт меня к своей квартирной хозяйке, у которой после института, работая участковым врачом, он целый год жил. Ехать – немедленно. По дороге заправимся. Кто говорил – папа ли, мама, я не улавливал. Как обычно, они слаженно чередовались. Со мной дуэт у них получался прекрасно. Может, меня не посвящая, они репетировали? Пока про себя вопросы прожевывал: что со школой, на сколько ехать, что буду там делать? – было велено в школьную сумку самые важные учебники положить, мама чемодан соберёт, через пять минут выезжаем. Успел ли я задать хоть какой из вопросов, не помню. Спешка ужасная: папе рано утром быть в институте, а дорога не близкая. Пропетляли по улицам, пока чугунный крест над головой из виду не пропал. По мосту над чёрной водой пролетели, и подсвеченные купола золотые за спиной в ночь провалились. На шоссе почти пустынно и оттого жутковато. В свете фар вдоль дороги слава за славой – то КПСС, то строителям коммунизма – мелькает, одна другой погоняя. Сперва широкая и почти без колдобин дорога постепенно сужалась, колдобинами беззастенчиво прирастая, пока через пару часов не превратилась в плохо проезжую. В лобовом стекле в правом верхнем углу у папы от встречного камешка – славный паук. Трещинки расползлись очень точно. Скверно будет, когда стекло поменяет. К пауку я привык. Можно сказать, я с ним сдружился. Всё думаю, может, не камень, а птичка? Представляю: летела навстречу, две скорости встретились, чирк – коготком по стеклу. Птичке каюк. Коготок увяз – всей птичке пропасть. Лев Толстой. Вот и пропала. Сдохла. Исчезла. Паучок – вместо неё. И мы везем его чёрт-те куда, чёрт-те зачем. Ни телевизора, даже чёрно-белого, ни радио в доме не было, да и молчаливая хозяйка через день куда-то уехала, показав газовую плиту и холодильник, заботливо забитый разнообразной едой, объяснив, чем кормить кота и собаку и куда класть ключ, когда буду уходить на реку или куда-то ещё. Такую свободу, надо заметить, в своей жизни получил я впервые. Вопрос: что буду с ней делать? В день первый спал до полудня. Потом на реку огородом пошёл. Кроме ветра, там не было никого, и купаться не захотелось. Потом прошёл по посёлку: пустынно, несколько кривобоких прохожих встретились у закрытого магазина. Вернулся, открыл учебник, честно уставился и, сообразив, что бесполезно, закрыл. Потом, устремив взгляд в окно, стал соображать, что произошло. Война? Тогда бы стаями самолеты летали. Землетрясение? Тогда бы дрожала земля, посуда звенела, и люстра качалась. Папа с мамой сильно поссорились? Тогда бы увидел по лицам. Наводнение? Наводняться чему и откуда? С этими вопросами лёг спать. С ними же и проснулся. Проснулся в доме один. Хозяйка предупредила, что рано уедет. Первым делом накормил кота и собаку. Кот мяукнул, собака хвостом повиляла. До завтрака решил дом обозреть. Кроме шкафа книжного – ничего интересного. В нём – «Малый атлас мира». Синий. Можно листать. Клуб кинопутешественников. Без телевизора и Сенкевича. Несколько книг было с ятями. Перелистнул – словно регистр переключился. Оглянулся – всё вокруг должно было измениться. «Война и миръ». «Преступленіе и наказаніе». «Евгеній Онѣгинъ». Вытащил круг краковской колбасы и арнаутку, из дому привезённых. Начал я с бутерброда: на кусок хлеба уложил кружки очищенной и порезанной тоненько колбасы, а кончил тем, что дожирал, откусывая не очищенную. Покончив, вышел во двор, поднял голову и завыл, вроде бы на луну. Пёс вылез из будки и с удивлением посмотрел: луны давно не было и в помине. Кот к вою, как и ко всему на свете, кроме жрачки, остался презрительно равнодушен. Но! В шкафу среди всякого красовалась жемчужина. Светло-серые тома двенадцатитомного Мопассана. Растерявшись перед обилием, стал торопливо листать. Что по названию можно понять? Хотя «Мадмуазель Кокотка», пожалуй, самое то. Кокотка – вроде бы как проститутка. Наверное, слово, как всегда, у французов притырили. В любовном деле они – мастера. Как англичане в спорте, а итальянцы в театре. Подумав это, глянул в окно: не принесла ли кого-то нелёгкая, подошёл к зеркалу: как там усы, и рванул на кровать, на ходу первые строки глотая. Врач? Кучер? Кокотка – собака? На кой мне собака? Есть уже во дворе. Мопассан и собака? Утопил её, как Герасим Муму в пятом классе. Или даже в четвёртом. И чем французский конюх наёмный болтливый отличается от русского мужика дворового немого? На эти вопросы я не ответил. В окно постучали. Сунув Мопассана с французской Муму под подушку, спрыгнул с кровати. Оказалось, вслед за мной приехали брат с сестрой, дети папиного начальника. Он был на год старше меня, она, кажется, на два. Год назад на их даче встречались. Для меня весьма необычной: не щелястая деревянная халабуда в Осокорках или Глевахе – аккуратный домик на сваях в месте не дачном, совсем для меня безымянном, вокруг которого ни картошки, ни огурцов – только цветы. Они тогда только что из-за границы вернулись, где прожили несколько лет. На даче мне показались очень взрослыми и очень нездешними, а я наверняка им – местной козявкой болотной. Как и меня, их отец под утро привёз и тотчас уехал. – Ника, – сказал он, показывая на сестру, – Вероника. – Ника, – сказала она, показывая на брата, – Никол, Николай. Ясно: реприза демонстрировалась не в первый раз и не в последний. Здорово были похожи. Можно сказать: ужасно похожи, что ничего не меняет, главное, похожи, как две капли воды, как близнецы, которыми быть не могли – она была старше. Сходство подчёркивали. У неё под него короткая стрижка. У него верхняя губа тщательно выбрита, или, может, совсем не росло. Кто его знает. Не станешь же, таращась, лезть в лицо человеку. Глядя на них, позавидовал. Я всегда завидовал тем, у кого брат или сестра. Им – и подавно. Хотя непонятно, зачем мне на кого-то быть здорово или ужасно похожим. Может, без этого лучше. Решил как-нибудь над этим поразмышлять. Сняли дом рядом с моим. Их огород упирался в обрыв. И на реку через мой пробирались. Мне доставили сетку с продуктами, письмо от родителей и новое слово. Точней, оно было старым, но давно из употребления вышедшим. Так говорили, только войну вспоминая: эвакуация. Что произошло, тоже не знали. В письме повторялось сказанное перед отъездом. На главный вопрос – когда назад заберут? – ответа не было. Вопрос был намертво связан с другим: что случилось? Брат с сестрой только головой покачали, сказав, что пойдут спать, а вечером милости просим на ужин. Ладно. Ужин так ужин. А пока – Мопассан, который через страницу Кокотку-Муму утопил, а затем хозяина в сумасшедший дом переправил. Сам автор, кажется, тоже там кончил, подобно художнику Врубелю, Демона рисовавшему. Или я что-то напутал? Ладно. Неважно. Полистаем. «Лунный свет»? Может, здесь будет не про собаку. Аббат, ненавидящий женщину? Неспроста он её ненавидит.
Он был убеждён, что бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины. Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, ибо руки её простёрты для объятия, а губы отверсты для поцелуя.
Хорошо бы меня какая-нибудь искусила. Уж я бы приблизился без опаски. Лишь бы руки её были простёрты, а губы отверсты, значит, открыты. А целоваться как? Не губами, а зубами и языком? Того гляди, зубы друг о друга сломаешь, а языки поприкусываешь – целый день будет болеть. Пока, продолжая читать, я размышлял, аббат страшно нервничал: его племянница обзавелась воздыхателем. Бреясь, три раза порезался, и ночью в лунном свете отправился подсматривать: правду ли сказала служанка. И вот: обнимаются и целуются.
Аббат едва стоял на ногах, – так он был потрясён, так билось у него сердце; ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Вооза, воплощение воли господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него зазвенели стихи из Песни Песней: крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью.
Руфь и Вооз. Откуда? Надо найти. Песнь песней надо бы почитать.
За что Лев Николаевич Мопассана любил, при этом Шекспира не жалуя? Вкусы гения непостижимы. Кстати, сцена пробуждения после ночи любви голых Ромео (только вид сзади) с Джульеттой (только верхняя часть) из старого к тому времени фильма великого Дзеффирелли, меня весьма и весьма волновавшая, ужасно смелой казалась.
Тихо здесь было необычайно. Мёртвая тишина. Собаки не лаяли, волки не выли, не хрюкали свиньи, кони не ржали, певчие птицы и люди не пели, не мяукали кошки, гуси не гоготали и не кукарекали петухи. Не курлыкали журавли. И аисты тоже молчали, да и вовсе последние годы не прилетали. Нарушали тишину только дикие латунно блестящие звуки днём после обеда и грохот на полигоне. Уезжая, хозяйка предупредила: недалеко дом пионеров, после обеда в горны дудят, а за посёлком – танковый полигон, по ночам развлекаются. Так и сказала: дудят и развлекаются. Ночью, грохот услышав, живо представил, как голые пионер с пионеркой красногалстучно любят друга и в честь этого горнами из танковых пушек стреляют, сообщая о случившемся родителям и вожатым. Наш Ромео с нашей Джульеттой не лыком шиты, хоть и джинсы у них из Болгарии. У кого на попе «Рила», тот похож на крокодила! Слушая эти пионерские танки, я тягостно размышлял: какого чёрта я здесь, что мне здесь делать, что здесь я забыл? Зачем сделал то? Зачем сделал это? Разматывая цепь этих «зачем?», замысловато заковыристые отыскивая, словно выколупывая из булки изюм, всегда до самого глупого и бесполезного «зачем?» доберёшься. Если не надоест по дороге, которая, если долго мучиться, чем дальше, тем больше будет казаться тебе бесконечной. А раз бесконечной – то бесполезной. Ужин был, прям скажем, на славу. Да не на ту, которая была в изобилии по дороге. С красной икрой (мама дала) и белым заграничным вином 0,75 (у отца утащили), от пуза «Белочкой» (из загашника общего). Болтали обо всём, следовательно, ни о чём. Точней, болтали они, я больше слушал. Чем я мог удивить? Видиком с кассетами, есть и с порнухой, шмотками, которые здесь добывались за бешеные бабки, и без гарантии, что не одесские? Обильно причастившись впервые, я на удивление себе всё соображал. Даже то, что выпил лишнее, а потому, поднявшись со стула и попрощавшись, надо идти уверенно, не спеша. Чтоб не споткнуться. Чтоб ненароком не пошатнуло, на повороте не занесло. Допив стакан и платком вытерев губы – к концу застолья этикет я тщательно соблюдал – откланялся и через минуту – дома наши рядом – левой ногой ступил на ящик, поставленный под окном, а правую, аккуратно согнув, поднял на подоконник. Так же, тщательно сложив, левую перенёс и опустился на пол уверенно, осторожно рядом с кроватью. Вопреки ожиданию по морям, по волнам меня носило недолго. Проснулся от смутного шелестения. Приоткрыл глаза – рядом со мной возникло белое и шуршащее, которое обратилось в слова, смысл которых был понятен мне не совсем, но оказалось, значения большого они не имеют. Всё потому, что запах и осязание были всего на свете сильней: они в меня пробирались, и полуявь в мой полусон проникала. Смешавшись, полусон-полуявь бело, настойчиво и округло меня охватили, руки, майку снимая, взметнули, одеяло вместе с трусами стащили, в единственный орган всего обратили, охватив его мягко, мокро, настойчиво. Всё вверх-вниз запрыгало, задрожало, затрепетало, пока не почувствовал знакомый восторг, трепет и облегчение. Везувий взорвался, Помпеи оставив в покое. Это осознание промелькнуло мгновенно чётко, ясно, разборчиво. Всё сразу, всё вместе, одновременно – не растерять, не упустить, не расплескать, всё успеть, сполна получить, всё запомнить и всё отдать до капли последней, в небытии не растворимой. Мелькнуло и тут же погасло, сменившись полуявью-полувидением, к которому начал я привыкать. В ответ белое, на миг обмякнув, вспорхнуло, и, набросив на меня, полусонного, одеяло, в окне, белея, мелькнуло.
Спустя несколько десятилетий – нет охоты подсчитывать – вспоминая, пытаюсь понять: почему это называется «девственность потерять»? Потерять – значит, утратить, коннотация отрицательна напрочь и безусловно. Отрицая, скажу: обрести. Ну, а что обрести – нюансов множество, по большей части индивидуальных.
Утром встретились на реке. Оба они, на меня пристально глядя, улыбались понимающе многозначительно. Значит, он знал, что она ночью была у меня? Или она знала, что он? Они оба носили исключительно белое. И я внимательно разглядывал их, ещё не раздевшихся, пытаясь приложить по одному к образу ночному невнятному. Каждый из них ночному видению не противоречил. Спросить? Что? Ты о чём? Он спросит. Она удивится. В один голос: «Что тебе померещилось?» Золотая рыбка хвостиком махнёт – шлёп по лицу мокро, противно, пощёчиной звонкой. Оставалось устроить эксперимент. Нынче же ночью. Для чего под вечер ужинать напроситься. Удочку я забросил. Наживку брат с сестрой заглотнули. Но рыбой, слишком много выпившей, чтобы толком ночью понять, кто приходил и что со мной делал, не они, а я оказался.
И ещё один раз – точно так же, по известной формуле фольклорно-трёхшаговой. Мог бы сказать, что заблудился в трёх соснах. Но это не верно. Сосны там не росли. Буки, вязы, платаны. Одним словом, флора не та. Заблудиться в ней невозможно. Но явь с видением спутать – в два счёта. Что и случилось. Трезвеющим взглядом белое провожая, решил, что оно у окна надвое разделилось, но, кто меня учил танцевать, бурсак или ведьма, осталось не прояснённым. В первые пару дней никто толком не знал, что случилось. Несколько человек понимали, что дикая катастрофа. Остальные, хоть как-то причастные, изнывали от страха и неизвестности. Смотрящие телевизор не ведали ничего. Умные врастали в приёмники. Но в эти дни голоса глушили с особой жестокостью. А в совершенно некстати наступившие майские дни настроение пира во время чумы все остальные убийственным нокаутом победило. Вспоминая, ныне я бы иную пунктуацию предпочёл. Есть упоение в бою… Здесь бы знак вопроса поставил. А тут – безбожный пир, безбожные безумцы! – снял бы восклицательный знак.
Утром зашли – позвали купаться. От их огорода спуск к реке – шею сломать, от моего, напротив, пологий. В своих вроде импортных плавках рядом с ними я выглядел глухой деревенщиной, привыкшей купаться без ничего и напялившей, что под руку подвернулось. – Однако ты ничего, – она меня подбодрила. – Плюнь и разотри, – он был откровенней, и, подавая пример, плюнул и растер чем-то для обуви невыносимо цветастым. Я молчал ошарашенно. – Ты его ещё не видела без… – Как будто он меня видел. – Заткнись! Двинули в воду! В безымянной, по крайней мере, для нас, речке последний раз купались, вероятно, ещё при великом Петре и враге его Карле Великом. Воды в ней было меньше, чем водорослей. Плавать – не было речи. Только от одного заросшего берега выберешься на середину, как начинается берег другой, столь же заросший. Всё здесь было заросшее: огороды, сады и дороги, редкие встречные: мужики – щетиной, бабы – морщинами, похожие на каменных половецких или же скифских, которых было много в округе. Одна у моей хозяйки за огородом, служившая знаком приметным: рядом удобный спуск к реке начинался. Идя купаться, мимо неё проходили: брат, смеясь, поглаживал каменный зад, а сестра к груди прикасалась. Когда солдаты, русские-или-шведские, заходили в реку, ещё не заросшая, а может, слегка судоходная, она раздувалась, пологие берега затопляя. На нас же, вместе взятых в лучшем случае на одного солдата тянувших, и то без амуниции, река не реагировала. В отличие от неё, поговорить он любил. Странно. Наоборот обычно бывает. – Болтун, каких не видывал свет! – Не видывал? Значит, теперь ему, свету твоему, повезло. Пусть поглядит! Всё казалось, что я у них путаюсь под ногами. Это было ладно. Но ощущал: сами хотят, чтобы я у них путался под ногами. То ли боялись наедине оставаться, то ли ещё что мне не понятное. Кто – совершенно неважно. Мог быть другой. Главное – чтобы путался. Всё время они были вместе. Сиамские близнецы. Словно друг к другу они приросли. А мне хотелось, чтоб разделились. Как с ним, с ней я не мог говорить. И слова другие, и вообще. Он слов не стеснялся, и она тем же ему отвечала. Но они – брат и сестра, дело другое. Мне непривычное. Я был один. Вообще не стеснялись друг друга. На реке, переодеваясь, просила только меня отвернуться. А он и не зыркал: наверняка давно всё это видел. С ним побыть вдвоём хотелось мне потому, что надеялся подробней про видик услышать. Точнее, про фильмы. Спросить сам, конечно, не мог. Но в разговоре, думал, смогу натолкнуть. Пусть расскажет подробней. Что, о чём и к чему. В нашем кино и обнимаются и целуются как-то не очень. А там… Что было там, я, конечно, догадывался. Но услышать, а чем чёрт не шутит, увидеть – может, вернувшись в город, и пригласит – дело другое. Только разъединить их не получалось. Может, и в уборную они вместе ходят? Надо бы – ха-ха-ха! – подсмотреть! Но подсмотрел я – случайно! – другое. С колбасой и шпротами из посылки, которую они привезли, двинул на ужин. В заборе дыра, под окном у них, как у меня, стоял ящик, чтобы не делать круг через калитки. Встал на ящик и вижу: голые вместе спят на диване. Соляным столпом замер на ящике: в правой руке колбаса, банка со шпротами – в левой, глаза к дивану прилипли, брюки трещат, Везувий вот-вот всё на свете горячей лавой покроет. И потекут горячие ручьи по закоулочкам, трусы и брюки пятная, фрески помпейские от нескромных глаз на века укрывая. Представил, откатив время на пять копеек назад. Охватив жадно губами, до последнего судорожного глотка, задыхаясь, беспрестанно впивала, пока в изнеможении рыбой на суше широко, округло воздух вдохнула. И – развалились, будто позируя. В отличие от Ромео и Джульетты из итальянского фильма – вид спереди и всё наружу. Руки раскинули. Ударило: лобки голые и подмышки. Первое: ещё, наверно, не выросло. Лишь потом сообразил, что побриты. Может, для меня спектакль этот устроили? Слез. Идиот-идиотом с колбасой и шпротами поплёлся назад. Через полчаса заявились. Вместе, понятно. Почему не пришёл? Ждём. Как ни в чём не бывало. Спросить? У кого спросить? У них? У себя? Как спросить? Не вы ли полчаса назад голыми спали, у вас ещё лобки и подмышки гладкие, безволосые?
Свой Чернобыль, обернувшийся сексуальным, я вспоминаю в тёмно-серых и мутно-зёленых тонах. Из-за водорослей? Из-за сумеречных раздумий, казавшихся мне под силу? Из-за резко оттенявшего всё двухголового белеющего пятна в тогдашнем окне и в моей нынешней памяти? Ответа на вопрос не имею и вряд ли когда-нибудь обрету, коль скоро за последние тридцать лет не получил.
Одно другому, однако, не помешало. Колбасу за ужином слопали. Шпроты умяли. Из их кулька последние котлеты сожрали. Вместо вина, которое кончилось, защемив нос, самогон – они где-то добыли – ужасно вонючий и обжигающий, как факир огонь, заглотнули. После самогона разговор пошёл трескуче, обрывисто и длился до тех пор, пока они с моего ящика в моё окно меня внутрь не затолкали. Много рук облепило, и чтоб отклеиться, мне в окно надо было перевалиться. Но руки были приятны, они проникали в места, через которые глубоко в меня пробирались, и я отделяться от них никак не желал. Да и они что-то такое во мне находили, что исчезать не хотели, их становилось всё больше и больше, неведомо откуда они появлялись, казалось, по реке приплывали, в водоросли превращаясь. Приникали нежно, зная наверняка, где касания невыносимо приятны. Когда руки-водоросли от меня отделялись, устремлялся за ними, выгибаясь и выворачиваясь, только бы не упустить прикосновения, не потерять эти два тела, которые рядом, будто внутрь фильма я заглянул, на съёмку попал и командую в рупор: «Джульетта! Опусти накидку, будешь и снизу голой сниматься! Ромео! Повернись, теперь тебя спереди снимут!». Крикнув, я стал Ромео, никого не стесняясь, поворачивающимся обнажённым на камеру – пусть снимают, а затем превратился в Джульетту – все вместе с камерой в меня впиваются, чтобы, увидев, запомнить невиданную красоту. Река становится бурной, широкой, а плыву по ней на утлом челне, и с одного берега меня несчастный разгромленный Карл окликает, а с другого Петр, победитель могучий, на ужин зовет. Делаю вид, что голых брата с сестрой я не вижу, не слышу голос разбитого Карла, зато на призыв Петра весело откликаюсь – и вот, вместе пируем, и он зовёт в покои пройти и шведской девой, в плен взятой им, с царской щедростью одаряет. Но дева не шведка, она прекрасная итальянка, ночь напролёт, до самой зари, шепча знакомые мне слова по-английски, так жарко любит меня, что усатый Мопассан, облизываясь, ухмыляется, а луна в изголовье хихикает. Мокрый, просыпаясь, под утро долго-долго припоминаю, чему мы эту прекрасную ночь посвятили. И всё бы прекрасно, но мучают изжога с отрыжкой, о колбасе, самогоне и шпротах безжалостно напоминая. Какого чёрта я с ними ужинал? Насмотрелся – и хватит. А самогон, как говорил толстовский герой, и вовсе не комильфо.
Кстати, этот самогонный опыт был моим первым, чрезвычайно важным для последующего там и тогда бытия.
Иногда они исчезали. В самом деле, не всё время со мною им быть. Не брат, даже не друг, случайный знакомый. Где ходили, не спрашивал, сами не говорили. Когда уходили, было совсем невмоготу. Тем более что Мопассан надежд не оправдал. Да и, честно сказать, после виденного, самогона и сновидений слишком широко открыть мне Америку он бы не смог. С собакой и котом дружба у меня не сложилась. Может быть, потому что я даже имён их не знал. Хозяйка не сказала, я не спросил. Еду и воду им приносил. Чего ещё надо? Часами бродил по двору, с собственной тенью играя. Своё место тень знала. В отличие от неё, тень отбрасывающий своего места не знал. Искал, не сдавался, не находил. Тревожная тень грядущего падала на меня: в потёмках искать себя нелегко. Наконец заявились по-прежнему двухголово сиамски, по-прежнему в белом, но – почувствовал – не в себе. С утра не жравши, не пивши сидели на почте. Очередь – невозможная. Связь обрывается. Починят – очередь сдвинется, и снова – обрыв. Главное: дозвонились. В городе суматоха. Ничего неизвестно. Ему и им привезут завтра еду. Держаться велено вместе. Водителя не задерживать. Забрать посылку и попрощаться. Привезёт ящик вина. Красное. Сухое. Не кислое. Стакан каждому в день. Но – не сразу. Когда отбой – неизвестно. Скорей всего, куда-нибудь надо будет уехать. Домой не заезжая. Водитель заявился чуть свет. Кроме еды и вина письма привёз. В моём – те же инструкции. Плюс: очень заняты, скорей всего, приедет бабушка и вместе двинемся дальше. Куда – под вопросом. Этим бабушка занимается. Их новости были похожи. Отцы наши работали вместе, приехать к нам не могли. От чая, завтрака и вина шофёр отказался. На вопросы отвечал односложно. Да и знал нашего, похоже, не больше. Молодая жена, а в городе, вздрогнув, – радиационная обстановка. Какая – он не добавил. Видимо, по его мнению, ужас был в том, что эта обстановка была. Против неё – красное сухое очень полезно. Но, говорят, и водка неплохо. Хотя ГАИ никто пока не отменял.
Всё время оглядываюсь назад. И вижу эпоху, мне тогдашнему не соразмерную. Эпоха сделала петлю, и сама себя захлестнула. Оглядываюсь и чувствую себя металлической щепкой, притягиваемой мощным магнитом. Отцом, матерью, о работе которых в те дни и месяцы знаю я мало, почти ничего. Не рассказывали, от вопросов изящно или не очень всегда уклонялись. Ужасно об этом им говорить не желалось. Похоже, было очень противно. Брезгливы, а дело приходилось иметь с чудовищной глупостью и немеряной подлостью не только чужих, но и тех, кого считали своими. У той эпохи взгляд василиска. Не отпускающий. Внутрь тебя проникающий. Взгляд прогнившей вечности ядовитый. Она – уже довольно далёкое прошлое. Так для кого-то. Для меня же никуда не уходит: волна накатила и назад не отступает. Всё время – передо мной, впереди: не обойти, не перепрыгнуть. Оглядываюсь: в чёрном квадрате воды под мостом и треугольнике обрыва над речкой звеняще проступают, словно голодные волчьи ночные глаза, огни зелёно-болотные, среди которых беспомощно мальчишка барахтается – познавая мир, женщину, всё на свете, что положено человеку познать, прежде чем, насытившись знанием, он умрёт, мучаясь тем, что плод с древа познания лишь надкусил. Насытившись и надкусив – друг другу противоречит? Хоть бы и так. Что это меняет? Ещё округл, а его течением в треугольник уже затащило. Хоть не Бермудский, но у всех треугольников углы ужасно остры. Невозможно не наколоться. Барахтается, над ним двухголовое белое видение нависает, маня и отталкивая, Везувий горячий, беспощадный и ко всему, что под ним, безразличный.
Через пару дней, дозвонившись, они принесли это слово. Думаю, мы из последних название это услышали: мир его уже знал. Рассказывая, перебивая друг друга, они присловье общее добавляли: «Ты ж понимаешь!», будто удостоверяя наши особые отношения. – Где это? – Понятия не имею. – Он или она, может быть, вместе. И тут я вспомнил. Книжный шкаф, Мопассана и Малый атлас в обложке синего цвета. – Вот тут! Ищите! С двух сторон зажали меня, и в шесть глаз стали искать. – Сквира, Тараща, Белая Церковь. – Борисполь, Бобровица, Бровары. – Радомышль, Коростышев… – Э! Куда ты полез! – Смотрите! Припять… – Это река! – Вот, на реке. Припять, Иванков, Чер-но́-быль! – Че́рнобыль?! – Чернобы́ль! – Нашли! – Звонко и высоко. Это она. – Сбылась мечта идиотки. – Он. Как всё сестре, чуть-чуть лаская, какую гадость бы ни сказал. – Придурок! Это на севере! – Как будто в этом он был виноват. Они тесно ко мне прижимались, и, тела ощущая, больше всего на свете их хотелось обнять, ещё теснее прижаться, чтобы в единое – теперь уже трёхголовое – существо превратиться. Но им я был вовсе не нужен. Разве что атлас добыть. И без меня им друг друга хватало. Вместе с названием никому не известного городка они принесли с почты, немножко картавя, словно украв в кабинете физики или же в поликлинике, радиацию и рентгены. В голове тут же охотно – портрет Склодовской-Кюри, мужа начисто игнорируя, нарисовался. Она держала в руках фотографию рёбер, рассматривая на просвет. Рассказывали сбивчиво, но, в общем-то, внятно. И вдруг его понесло. От испуга? Словно лошадь помчалась. – Атомы взбесились. У протонов крыша поехала. Электроны, на что джентльмены, и те обезумели. Всё это – такие трихины, о них Достоевский писал. То ли от них – радиация, то ли от атомов, которые, отравившись трихинами, оборзели, это мне по х*й. А не по х*й, что от них я подохну, вместе с вами, заметьте, а у нас с тобой, брат, яйца отвалятся. Тебе, сестра, повезло. Но не радуйся, и тебе будет худо! Заметьте, бабы – зырк в её сторону – среди этих гнусных частиц ни одной. Сплошной – та-та-та-та-таа-таа-та-та! – концерт первый чайковский. Ну хоть одну бы им б*дь, хоть бы какую! Ничего бы и не было! Они, электроны-протоны, на станции её бы во все дырки е*али, и нам бы здесь, в этой вонючей дыре не торчать! Того и гляди, эти сраные атомы и нейтроны до нас доберутся – трахать одного за другим или всех вместе. Раздевайтесь! Трусы скидавайте! И – подставляйте! Кто перёд, кто зад! У кого что имеется! Скоро перетрахают всех нас, и в корчах подохнем! Она попыталась что-то сказать, но случившиеся звуки на слова были не очень похожи. Он от этих звуков только поморщился. – А хочешь, – отведя взгляд от сестры, впился в меня. – Хочешь её? – Он ткнул её между ног. – Или меня, – себя хлопнул по заду. – Или нас обоих? – И начал расстёгивать пояс. – Давай, а то девственником, плод не сожравшим, подохнешь! Она снова попыталась что-то сказать. И снова не получилось. – Ну! – И на моих брюках молнию вниз потянул. Заворожённо глядя на брата, наверняка таким прежде не видела, она, меня обойдя – как всегда между ними я оказался – взяла его руки в свои, и, к его свои губы приблизив, вдруг... [👉 продолжение читайте в номере журнала...]
Чтобы прочитать в полном объёме все тексты, опубликованные в журнале «Новая Литература» в декаре 2021 года, оформите подписку или купите номер:

|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Тактические складные ножи. . Разработка проектов для строительства ангаров в перми. |

