Гости «Новой Литературы»
ИнтервьюКупить в журнале за октябрь 2016 (doc, pdf): 

Беседу ведёт Вера Круглова
Есть натуры, над которыми никто не властен. Даже время. Они творят, любят и мечтают в своём, особом измерении, а мы можем лишь наблюдать за их полётом, затаив дыхание, восторгаться и надеяться хоть немного приподняться над землёй в порыве того же ветра. Встреча с Николаем Лебедевым пришлась на те дни, когда уже отзвучали овации на премьере его картины «Легенда №17» и пришёл черёд нового проекта, к осуществлению которого он стремился всю жизнь. Чтобы передать глубину этого замысла, я попросила кинорежиссёра вернуться к самому началу.
– Николай, в какой семье вы росли, кем были ваши родители? Какая обстановка вас окружала?
– Я был поздним ребёнком – отцу было тридцать шесть, когда я родился. Моя мама очень обижается, когда я говорю, что не чувствовал себя счастливым в детстве, но это правда, и я ничего не могу с этим поделать. Хотя детство у меня было вполне благополучным, хорошая интеллигентная семья, но сам мир вокруг казался таким несовершенным! Мне хотелось убежать в кино, потому что там я видел необыкновенных людей, сказочные пейзажи, совсем иные краски. Так и вышло, что кинематограф стал моим увлечением. Мне казалось, что раз на экране всё так хорошо, то и снимать фильмы – тоже здорово.

Родители мои не слишком приветствовали это увлечение. Отец, Игорь Николаевич, был человеком с очень сложной судьбой, его жизнь сломала война – в котле под Харьковом погиб мой сорокалетний дед, военврач, а старший брат отца, которому было девятнадцать, погиб под Веной в апреле 1945-го. Их обоих звали Николай Лебедев, и папа назвал меня в их честь. Отец воспитывался в Суворовском училище, хотел быть врачом, но стал военным, а потом уже, когда ушёл из армии, пришлось начать жизнь сначала. Он окончил политехнический и стал руководителем цеха на крупном заводе. К моему увлечению кино отец относился скептически. А я придумывал сказки и фильмы-катастрофы в детстве, снимал пластилиновых динозавров, макеты опрокидывающихся поездов и горящих самолётов. Мама, Елена Алексеевна, была экономистом, выходцем из семьи железнодорожников. Она тоже вполне земной, реалистический человек – и посему, как и отец, довольно снисходительно взирала на мои творческие потуги. Впрочем, вслух большого скепсиса она не высказывала и даже умудрялась перепечатывать в свой обеденный перерыв какие-то мои рукописные тексты – для меня было очень важно, чтобы детские тексты «сценариев» обретали «взрослый», «серьёзный» вид. Моё увлечение кино поддерживала бабушка, приёмная мать отца, – Александра Михайловна. Я звал её Сашуленькой и любил без памяти. Её маленькая квартира, занимавшая часть особняка в центре Кишинёва, была моим первым съёмочным павильоном, здесь я придумывал свои любительские фильмы и снимал их. Роли исполняли ребята со двора и одноклассники. Но больше всех я эксплуатировал младшего брата Сергея, который не мог мне отказать и вынужден был появляться в каждой моей картине. Вчера он приехал ко мне, мы с ним рассматривали фотографии съёмок моего нового фильма, который вдохновлён фильмом Александра Митты «Экипаж». Брат знает, что «Экипаж» – моя любимая картина, которой я буквально бредил с детства, и он сказал: «Интересно, а что бы подумал отец, если бы ему сказали в начале восьмидесятых, что ты станешь режиссёром нового «Экипажа»?» Конечно, отец никогда бы не поверил, что продюсером моего детища будет Никита Михалков, а Александр Митта, автор «того самого фильма», уговорит меня снимать эту картину и будет приезжать на съёмочную площадку – во-первых, для того, чтобы сняться в крошечном ироничном камео, а во-вторых, чтобы с азартом понаблюдать за процессом.

Когда родители поняли, что меня не оторвать от увлечения кинематографом, они воспользовались этим для моего развития – стали внушать, что если я не прочту множества книг, то не смогу работать в кинематографе. Сначала, когда я учился в первом-втором классе, мне покупали книги про кино, и я их читал – поначалу чуть ли не по слогам, потом, когда я перешёл в средние и старшие классы, в ход пошла «тяжёлая артиллерия» – классическая литература. Чтобы поскорее освоить нужные объёмы информации, я составил себе план – каждый день читал не менее 150 страниц. За три-пять дней я проглатывал очередной увесистый том.
– У вас были любимые книги?
– Конечно. Ребёнком я обожал мифы Древней Греции и сказку Волкова «Волшебник Изумрудного Города» (по которой, кстати, в четвёртом классе написал огромный сценарий – и забавно, что рукопись сохранилась, и я по сей день удивляюсь, что местами я довольно точно следовал правилам драматургического построения кинопроизведения и законам саспенса[1]), потом влюбился в романы Жюля Верна – особенно ценил «Таинственный остров», а когда повзрослел, прочёл всего Золя, Толстого, Чехова, Мопассана, а вот Достоевский с его многословием и мрачностью не был мне по душе. Мои кинопристрастия, разумеется, тоже менялись с возрастом: в детстве любимыми режиссёрами были Роу и Птушко, а любимым жанром – киносказки. Сейчас же получаю наслаждение, когда смотрю Эйзенштейна, Феллини, Спилберга, Хичкока или Скорсезе. Когда-то я столкнулся с любопытной мыслью у Хичкока: он, рассказчик увлекательных историй, признался, что не любит читать беллетристику, зато ценит документальные истории. Вот и я с возрастом почти перестал читать беллетристику. Читаю книги биографические, потому что мне интересны реальные, а не придуманные события, – сказок мне и в работе хватает.
– Известно, что вы и сами пробовали писать, вы – соавтор нескольких романов детективно-криминального жанра. Когда вы впервые взялись за перо?
– В детстве – когда начал писать первые сценарии. Мне было лет семь. С той поры и пишу – я ведь журналист по первой профессии, работал в газетах и на телевидении, был корреспондентом, автором и ведущим молодёжных изданий и телепрограмм. В начале девяностых, когда всё рухнуло и жить было не на что, я занимался писанием романов на заказ, это был единственный способ прокормить семью и себя. Тамара Глоба однажды предложила мне написать про себя книгу. Идея показалась любопытной – знаете, надоело читать о себе или о своих фильмах всякую ерунду, порой за голову хватаешься. Например, картина «Легенда №17» – это, оказывается, проект, в котором ради Путина оправдываются диктаторские методы тренера Анатолия Тарасова. Так уверенно, авторитетно и безапелляционно написал один критик. Я упал в обморок, прочитав это, – и до сих пор в этом обмороке нахожусь (смеётся). Вы знаете, Эдит Пиаф написала о себе две книги – причём с небольшим промежутком. Одна из них была весьма игривой и кокетливой, а вторая, напротив, была простой и предельно исповедальной. Написанная на смертном одре, она называлась «Моя жизнь». Начиналась эта книга словами: «Я умру, и столько всякого наговорят обо мне, что, в конце концов, никто не узнает, какой же я была на самом деле. Не так уж это и важно, скажете вы. Да, конечно. Но эта мысль не даёт мне покоя. Вот почему, пока ещё не поздно, я хочу рассказать о себе…». По совету Тамары я начал писать и даже написал достаточно большой фрагмент книги, а потом подумал: нет, пока не сто́ит. Знаете, всё-таки мемуары – это попытка представить свою жизнь такой, какой бы ты хотел её видеть, а не такой, какой она была. Пока я могу рассказать далеко не всё, а врать не хочется. Поэтому пишу теперь только сценарии и режиссёрские разработки к собственным фильмам.

– Почему ваше становление началось с факультета журналистики, а не сразу с кинематографа?
– В первый раз я поступал во ВГИК, когда мне было шестнадцать. Был я тогда очень стеснительным и робким. Письменные туры прошёл легко. Кстати, писал про фильм «Экипаж» – сразу две работы. А когда пришёл на собеседование, набиравший курс Марлен Мартынович Хуциев, наш выдающийся режиссёр, киноклассик, строго посмотрел на меня сквозь толстые линзы очков, и я потерял дар речи. Вот просто слова не мог вымолвить!.. И меня не приняли. Родители посоветовали поступать на факультет журналистики. Я отправился в университет и без труда сдал экзамены. Много лет спустя мы гуляли с Марленом Мартыновичем по Минску, и в порыве трепетной любви к нему (он очаровательный человек, потрясающий!) я рассказал о том, что чувствовал во время поступления в его мастерскую. И вдруг он воскликнул: «Простите меня ради бога! Не обижайтесь, пожалуйста!». Я даже растерялся. Хуциев был и остаётся одним из главных учителей в моей жизни, и никакой обиды у меня, безусловно, нет и быть не может. И я сказал совершенно искренне: «Марлен Мартынович, дорогой, это был самый яркий урок в моей жизни! Я безмерно вам благодарен!». И действительно, если бы меня тогда приняли во ВГИК, возможно, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас, потому что тогда ещё не сформировался до такой степени, что мог бы сам выбирать, что мне нравится в жизни и в кино, чего мне хочется снимать, а что не по мне. Всё, что мне необходимо в профессии, я осваивал сам, сам выбирал себе ориентиры. Мне нравится Хичкок и Спилберг, и я знаю, чем они меня привлекают, а чем нет, чему я учусь у того и другого. Кстати, ВГИК я потом всё-таки окончил.
– Скажите, а книги, соавтором которых вы были, для чего вам понадобились?
– Для денег (улыбается). Вернее даже сказать, для выживания. Это было в девяностых. Полнейшая нищета. После первого моего фильма, получасового мистического триллера «Ночлег. Пятница», у меня не было работы, а тут предложили заняться произведениями, которые подписывали именами известных авторов. Придумывались и писались женские, фантастические, приключенческие романы, и это была не халтура, а достаточно сложная работа. В день приходилось писать по десять-пятнадцать страниц текста, каждый день, без выходных! В то же время мне повезло: я попал в телевизионную программу, которая называется «Улица Сезам». Бюджеты коротеньких, двухминутных сюжетов были крошечными, зато у меня в руках была камера и возможность заниматься своей профессией. Я был сам себе режиссёр, сам писал сценарии, раскадровывал их, сам был администратором, договаривался с артистами о съёмках, и как-то очень быстро мне стали доверять. Меня отправляли в командировки, например, в Петербург, где я сделал сюжеты о Дворцовой площади и о питерских каналах и мостах. Это было совсем непросто! Я побывал в мэрии, взял разрешение на съёмку, привлёк специалистов – всё делалось очень профессионально. Эти мои сюжеты, кстати, попали в международную библиотеку «Улицы Сезам». А литературная карьера между тем закончилась.

– Вы говорили о Спилберге, Хичкоке как о своих почитаемых коллегах. Есть ли у вас киногерои из картин прошлого, «двойников» которых вам хотелось бы видеть в собственных фильмах?
– Да, это герои фильма Митты «Экипаж». Но в моём «Экипаже» их… нет! Новое время требует новые истории и новых персонажей. Вот почему наш фильм – не ремейк, а посвящение, признание в любви фильму Александра Митты. Совпадают лишь профессия героев да некоторые перипетии катастрофы. В остальном же – это абсолютно оригинальное произведение, и сам Митта, который читал наш сценарий и видел отснятый материал, постоянно об этом говорит.
– Если говорить об «Экипаже» Митты, то, как известно, в его картине две части – одна психологическая, бытовая драма, другая – собственно фильм-катастрофа. А как свой проект выстроили вы?
– У Александра Наумовича на самом деле никаким фильмом-катастрофой в сценарии и не пахло. Это же был «запрещённый жанр», американский!.. Митта и его постоянные соавторы, замечательные драматурги Дунский и Фрид, пошли на талантливую хитрость: чтобы миновать редакторские препоны, они создали произведение, в котором соединили жанр киноромана с производственным фильмом. Идея была гениальной: ну кому пришло бы в голову возражать против производственной драмы, в которой советские лётчики чинят самолёт и спасают (за границей, заметьте) десятки пассажиров, среди которых и иностранцы!.. А затем Митта уже снял то, что и хотел, создав уникальный жанровый коктейль: тут и бытовая драма, и мелодрама, и романтическая комедия, а дальше всё переплавляется в фильм-катастрофу. Сражение с редакторскими заслонами очень пошло на пользу фильму. Понимаете, какая тонкость: если бы картина начиналась сразу со второй части – с землетрясения, с трагедии, зритель бы не понимал характеры героев картины, не знал бы, какие они, не успел бы полюбить их, а благодаря первой части это произошло. Так же действует и Спилберг в своих фильмах. В нашей же картине рассказывается история человека как бы не от мира сего, точнее сказать, не от нынешнего времени. Я болезненно отношусь к процессам, происходившим с нами в последние двадцать пять лет – особенно в девяностые годы, когда многие очень достойные люди оказались на обочине жизни. Наше общество утратило тогда такие понятия, как человеческая порядочность, достоинство. «Хватай и тащи!» Это ведь страшно. В выигрыше оказывались те, кто умел идти напролом, а те, кто не хотел поступаться честью, своими нравственными принципами, были вытолкнуты на обочину. Вот наш главный герой, молодой лётчик Алексей Гущин, – человек такой породы, совестливый, порядочный, честный, как и его отец, знаменитый в прошлом авиаконструктор. Этот парень пытается найти себя в этой жизни, не сломаться, не предать свои принципы. К счастью, у нас сохранились такие вот люди. Без них страна просто погибла бы.

– Мы заговорили о бизнесе, о девизе «Хватай и тащи». Скажите, в кинобизнесе тоже нужно уметь работать локтями? Вы пробивной человек?
– Я не занимаюсь бизнесом, я занимаюсь кино. А в кино требуются другие умения и таланты.
– А как вышло, что вашим творческим союзником стал Никита Михалков?
– К Никите Сергеевичу я всегда относился с глубоким пиететом. Помню, испытал ощущение настоящего счастья, когда смотрел его «Утомлённые солнцем», а потом узнал, что этот фильм получил «Оскар». Когда я снял «Змеиный источник», Михалков стал резким и непримиримым критиком картины. Для меня это было непростым испытанием: ведь одно дело, когда тебя ругает какой-нибудь Пупкин, и совсем другое – когда критика исходит от одного из самых мощных, авторитетных и талантливых режиссёров страны. Потом так вышло, что мы познакомились, стали общаться, и однажды Никита Сергеевич окликнул меня в Доме кино: «Лебедев! А ты почему сейчас ничего не снимаешь? У нас есть для тебя проект, позвони». Так началась работа над «Легендой №17». Сценарии о Харламове я читал и раньше, но, честно скажу, никакого отклика в душе не вызывали – обычное нудноватое биографическое кино. Когда Леонид Верещагин, генеральный директор студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, предложил мне прочесть версию молодых драматургов Михаила Местецкого и Николая Куликова, я откликнулся на предложение с благодарностью, но без энтузиазма, – я уже понимал, что этот материал, что называется, «не мой». Однако через несколько страниц совершенно позабыл о своём предубеждении. История меня не просто увлекла, а стала пробирать до дрожи, до слёз. Притом что сценарий был ещё сырой, там присутствовал потрясающе выписанный характер – и это был не Харламов, а тренер Тарасов. Я просто влюбился в него, потому что увидел в этом персонаже черты своего отца.

– Вы знаете, когда «Легенда №17» вышла в прокат, один мой знакомый сценарист отозвался о вашей картине так же, как вы – об «Утомлённых солнцем»: наконец-то в России появился фильм, который можно назвать настоящим кино!
– Спасибо, очень приятно это слышать. На самом деле, о «Легенде» я прочёл много и хороших, и негативных отзывов, а плохое бьёт очень больно. Но когда я думаю о картине, то вспоминаю первый показ фильма – ещё закрытый показ, он происходил на кинорынке. Было утро – а кому приятно смотреть фильмы по утрам?.. Прокатчики – а они ведь обычно самые суровые и даже циничные оценщики – были сонные, скучающие. Погас свет, на экране возникли первые кадры. И вдруг – будто кто-то подменил публику в зале. Люди, которые присутствовали на просмотре, стали реагировать очень эмоционально, по ходу ленты зазвучали – и не раз! – аплодисменты, все смеялись и плакали, это было так трогательно! Я помню немолодого мужчину, который сидел передо мной и всё время протирал очки и глаза в финале, он плакал как ребёнок. А потом, уже после выхода картины в прокат, произошёл забавный случай. Мы гуляли с дочкой Настей во дворе, она стала играть с мальчиком лет семи-восьми, и вдруг он спрашивает: «Ты смотрела «Легенду №17»? Это такой крутой фильм!» А Настя ему отвечает: «А я в нём снималась!» – она играла Татьяну Харламову, сестру хоккеиста, в детстве. Мальчишка прямо-таки рот разинул от восторга.
– Вот она, слава!
– Да уж (улыбается). Сама Татьяна Борисовна Харламова тоже снялась в нашем фильме, в эпизодической роли. Помню то внимание и трепет, с которым она смотрела материал на съёмочной площадке. Для неё это была не игра, а собственная жизнь: «Николай, что же ты со мной делаешь? Видишь – я плачу!».

– Скажите, а как на «Легенду» отреагировали канадцы?
– Сами канадцы – хорошо. Наши эмигранты, живущие в Канаде, – хуже. Почему, мол, вы показали соперников советских хоккеистов такими монстрами? Да какие там монстры – остались ведь документальные кадры, и то, что мы продемонстрировали в фильме, это очень мягко по сравнению с тем, что было на самом деле. Правда, есть одна тонкость: для канадских хоккеистов того времени любой матч был своего рода театрализованной игрой, шоу. Как я понимаю, канадские хоккеисты играли роль таких вот громил и агрессивных хулиганов, для них это было своего рода представление, а для нас – суровый спорт, и больше ничего. В этом вся разница. Когда Мальцев упал во время первого матча Суперсерии на лёд, к нему подъехал канадский спортсмен и, от плеча размахнувшись, обрушил клюшку на шлем. У нас такое было невозможно, а они позволяли себе всякое.
– Николай, а у вас есть своя постоянная актёрская команда, собственный «звёздный состав», как у Эльдара Александровича Рязанова, который вы готовы снимать в каждом фильме?
– Я люблю всех актёров, с которыми я работаю. Они в какой-то мере мои alter ego. Но не думаю, что кого-то должен приглашать в свои картины раз за разом – даже из числа друзей. Единственный человек, которого снимаю практически в каждой картине и всегда с удовольствием, – это фантастическая Нина Усатова. Она уже стала для меня кем-то вроде талисмана. Когда делалась «Легенда...», я позвонил ей и сказал, что снимаю кино про хоккеистов, где для неё вроде бы нет роли – разве что врач в больнице, куда после аварии попадает Харламов, но по сценарию (да и в реальной жизни) этим врачом был мужчина. Одно появление и одна реплика. Нина мгновенно согласилась. В результате сыграла, как всегда, замечательно и даже получила за эту крошечную роль приз российской киноакадемии «Золотой Орёл». Кстати, удивительный момент: посмотрев фильм, Татьяна Тарасова воскликнула, что она знает эту женщину, вернее, её реального прототипа, мол, это врач Миронова. Мы с Ниной только переглянулись: вот что такое творческая интуиция! В «Экипаже», увы, роли для Усатовой тоже не было. Но мне казалось обидным обойтись без Нины. И я подумал о персонаже, который был списан с прекрасной Яны Поплавской, всеми любимой «Красной Шапочки», которая сейчас занимается благотворительностью и отправляет гуманитарные грузы людям, попавшим в беду. Усатова в роли Поплавской – ведь это весело, а?.. И я опять позвонил Нине. Был один-единственный съёмочный день, Нина Николаевна примчалась ночью из глухой провинции, где у неё был спектакль, в Питер, оттуда первым же самолётом в Москву, и утром уже была на площадке – в свой день рождения, между прочим. Нина Усатова – тот человек, который никогда не скажет: «Знаешь, а мне в этой роли не хватает размаха». Ей всегда всего хватает, и она может из крошечного эпизода сделать бриллиант. То же самое могу сказать об Ольге Михайловне Остроумовой, которая замечательно сыграла директрису в моём «Змеином источнике». Я так хочу с ней вновь поработать! Даже написал для неё роль в «Фонограмме страсти», но потом не сложилось: сценарий был переделан, а с переделкой исчез и персонаж Остроумовой – весь, без остатка. Зато посчастливилось привлечь Ольгу Михайловну к «Легенде №17» – она превосходно озвучила роль Бегонии, матери Валерия Харламова. Бегонию играла Алехандра Грепи, прекрасная испанская актриса, у неё красивый низкий голос, но оставить его в ленте по понятным причинам я не мог: ведь Алехандра не могла произнести ни слова по-русски. Я обратился к Ольге Михайловне, прекрасно понимая, что по тембру и темпераменту эти актрисы абсолютно разные, но когда Остроумова «для пробы» озвучила одну из сцен картины, я был потрясён – она «вписалась» в образ с невероятной точностью! Если вдуматься, то у меня единственный опыт в жизни, когда в двух фильмах подряд актёр играет главные роли. Это – блистательный Данила Козловский, мой друг и соавтор. Многие скептически отнеслись к нашей новой встрече на «Экипаже»: ну, мол, конечно, мы так и знали!.. Между тем целых полгода я и Даня решали, стоит ли нам вновь заняться совместной работой. Если в «Легенде» я бился за Данилу, потому что мне был нужен романтический герой, то в «Экипаже», наоборот, требовался персонаж обыкновенный. Но это не про Данилу!.. У него уникальность и необыкновенность, что называется, на лице крупными буквами написаны. Я боялся, что мы пойдём по колее, проложенной предыдущей картиной. Мы долго заново притирались друг к другу, репетировали всё лето прошлого года, а потом начались съёмки, и недели две ещё не всё складывалось, мы оба были в большом напряжении. А когда мы вновь нашли на съемочной площадке общий язык, новый творческий код, я был так счастлив! Да и Даня, по-моему, тоже. Он приезжал на съёмку за полчаса до начала смены, и у него горели глаза, это был такой кайф!

– Поведайте, пожалуйста, как вообще вы подбираете актёров для работы в своих фильмах?
– Это происходит по наитию. Та же Ольга Остроумова, тихая, трепетная, красивая – ну как она могла сыграть в «Змеином источнике» героиню-монстра? Сценарий «Источника» ей поначалу не понравился, он был, по мнению Остроумовой, слишком мрачный. Готовясь к первой встрече с актрисой, я собирался рассказать Ольге Михайловне, что на самом деле её персонаж – женщина яркая, сильная, талантливая, но её сломала жёсткая провинциальная жизнь. Ольга Михайловна подхватила тему и сама стала объяснять мне, как и почему изменился характер героини. Я осознал, что не хочу на эту роль никого, кроме неё – в особенности после того, как увидел Остроумову на кинопробе. То же самое происходило с Евгением Мироновым, для которого была написана совершенно другая роль, а он сам выбрал роль Андрона. Олегу Меньшикову в «Легенде №17» я предлагал роль партийного прихвостня Балашова, – того самого, которого впоследствии блистательно сыграл Владимир Меньшов. Но мне посоветовали попробовать Меньшикова на роль Тарасова, и я растерялся. Олег – актёр невероятно талантливый, замечательный, искромётный, со светлой энергетикой. Лёгкий, гарцующий франт! В роли сурового, жёсткого тренера я никак его не представлял. Но когда они с Козловским стали читать сценарий по ролям и Меньшиков преобразился прямо на глазах, никаких сомнений не осталось – передо мной был Тарасов! Мрачный, уставший человек, который внутри наполнен теплом и светом. Я просто обалдел.
– Слушаю вас, и мне кажется, что я беседую не с режиссёром, а поклонником «Легенды №17». Таким же, как я сама.
– Правда? Ну конечно, ведь в этой картине – море моих эмоций. Герой фильма идёт к победе через сомнения, боль, ошибки, это мне очень близко. Но я не могу назвать себя восторженным поклонником фильма, скорее, я люблю его, как любят собственного ребёнка, в нём – часть моей жизни, моего человеческого опыта.
– Многие зрители смотрели «Легенду», ощущая прилив патриотизма – даже за пределами России.
– Что ж, это прекрасно. Как можно не любить, не ценить свою страну?.. Другой вопрос, что ужасна слепая любовь. Или – любовь напоказ, лживая. В моей новой картине есть фраза, которая для меня очень дорога: «Патриотизм – это не бла-бла-бла по телевизору и не когда ты голый флагом в фонтане машешь, а когда у тебя в стране старики не побираются». Лично я ощутил себя патриотом, когда испытал чувство горечи за нашу жизнь – было это в девяностых, я впервые оказался за границей и увидел, что можно жить по-человечески, улыбаться встречным людям, уважительно относиться к своим улицам и к соседям, не мусорить на тротуарах. Патриот – это не тот, кто очумело орёт, что мы, мол, лучшие, а тот, кто честно делает своё дело и старается сделать краше жизнь вокруг. Чтобы наша авиапромышленность выпускала хорошие самолёты, а автомобильные заводы – хорошие машины. Валерий Харламов и Анатолий Тарасов – по моему разумению, это люди, которыми мы можем гордиться, которые делали нашу жизнь ярче. «Легенда» – фильм не про то, что всё советское – лучше, а про то, что человек, если он верит в своё призвание, может добиться очень многого. И ещё – про то, что быть достойным человеком – это хорошо.
– «Можешь или не можешь – только тебе решать!»
– Да. Я очень удивился, когда прочитал о том, что «Легенду» хотели запретить к показу в одном государстве с удивительной формулировкой – как фильм, пробуждающий чувство гордости россиян. Не гордыни же, а гордости! Даже обидно, что такая нелепица происходит в наше время.

– Хотелось ли вам когда-нибудь снять историческое кино о другой эпохе, другом времени?
– С точки зрения формальной, «Легенда №17» и есть исторический фильм.
– А что-то совсем удалённое?
– Пока нет. Хотя мне предлагают, конечно. Тут важно не время действия, а предмет разговора. Я ищу истории и персонажей, которые меня волнуют, а в какую эпоху происходит действие, не важно. Если бы я был итальянцем, то снял бы, наверное, фильм о Микеланджело. Если бы французом – об Эдит Пиаф.
– Вы полагаете, что, будучи русским, снять такие картины невозможно?
– Нет, я так не думаю. Просто будет странно, если я начну снимать про Микеланджело из своего российского далёка. Есть сюжеты, которые имеют право рассказывать лишь те люди, которые непосредственно с ними соприкасаются, носители определённой культуры.
– Николай, в официальных источниках говорится, что вы – дважды лауреат Государственной премии РФ, Член Союза кинематографистов России, академик Российской Академии киноискусств «Золотой Орёл» и Киноакадемии «Ника». Насколько важно для вас официальное признание ваших успехов в кинематографе?
– Признание – это всегда приятно, но не в этом смысл жизни. Для меня важно, чтобы каждый день был прожит не зря.

– Вы родились в Молдавии, достигли успехов в России, много времени проводите в Испании. Где больше всего Вы чувствуете себя дома?
– Мне очень нравится, что мир сейчас стал открытым, что я могу сесть в самолёт и полететь, куда хочется. Нравится возможность открывать новые города и страны. Я воспринимаю наш мир как большой дом, в любом уголке которого можно найти уют и гармонию.
– Вы реалист или мечтатель?
– Я – неисправимый мечтатель. К сожалению или счастью. Люблю фильмы, в финале которых есть светлые ноты – как у Хичкока, несмотря на их драматичность. Истории, которые заканчиваются пессимистически, на тоскливой депрессивной ноте, – не для меня. Пусть другие создают и смотрят такие картины, это их право, а мне хочется, чтоб и в жизни, и на экране нас не покидала надежда. Для меня это – самое главное.
[1] Саспенс – набор художественных приёмов, погружающих зрителя в состояние тревожного ожидания (прим. ред.).
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за октябрь 2016 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 11.06.2025 Снова встаёт вопрос – не стоит ли «Новой Литературе» стать «Новым литературоведением»? Потому что прекрасные, образные очерки об истории литературы раз за разом попадают в цель, и если их собрать в один сборник, то получится замечательное пособие для студентов-филологов. Никакой сетки унылых дат, только воссоздание творческого ландшафта каждого творца. 03.06.2025 Слежу за вами, читаю. По-моему, уровень качества постепенно растет. Или стабилен, в хорошем смысле. Со стороны этому и завидуют, и злятся некоторые. Как это у Визбора. Слава богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит есть, наверно, и друзья. Игорь Литвиненко 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. Николай Майоров 
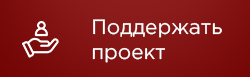 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
Зарубежная онлайн карта. Виртуальные иностранные карты. |
|||||||||||

