Ольга Демидова
Повесть
 На чтение потребуется 7 часов | Цитата | Подписаться на журнал
Оглавление 4. Истоки к Родине любви 5. Первая мировая война 6. Иван Наумов первый Первая мировая война
Наступил 1914 год. Началась Первая мировая война. Россия превратилась в растревоженный муравейник. Военнообязанные в ожидании мобилизации спешили завершить неотложные дела. Отцу, отслужившему действительную службу телеграфистом, было велено явиться в Бугульму на комиссию – он стал давать жене необходимые указания по хозяйству. Вскоре село наполнилось отрядом новобранцев, которые скопились на нашей улице возле закрытого кабака. Молодые, безусые и старше, они долго раздумывать не стали, приволокли откуда-то огромное бревно и, облепив его, как муравьи, с «Дубинушкой» начали бить в дверь. Обшитая толстым листовым железом, она не вдруг поддалась, но после нескольких дружных ударов разлетелась в щепки, и вся разношёрстная масса ворвалась в помещение, вынося оттуда четверти, бутылки, шкалики с водкой. Рекруты шлялись по селу, за полцены продавая спиртное. Разгрузившись, опять бежали в кабак. Под вечер все рекрутируемые охмелели. Один еле двигался, нагрузив полные штаны шкаликами. Тут подошёл к нему наголо остриженный приятель, толкнул так, что тот полетел, как сноп. Стекло со звоном перебилось, и водка потекла со штанов во все стороны. Толкнувший дико захохотал: – Смотрите, люди добрые, среди улицы оправляется! Мокрый от водки будущий солдатик еле поднялся, скользя по жиже, подошёл к обидчику и, что было сил, ударил по лицу. У того с губы и носа брызнула кровь – их еле разняли. Село превратилось в Содом и Гоморру, где буйствовали пьяные мужики, – женщины боялись выходить на улицу. Сельчане всю ночь не спали, опасаясь, что вот-вот вспыхнет пожар. Был июль – сухое время года – опьяневшие новобранцы кидали окурки куда попало, зачастую не гася их. В наш дом ввалилась группа парней, просясь переночевать. Отец, сидевший за столом с дядей Семёном, показал им повестку о прибытии в воинскую часть и строго потребовал оставить спокойно поговорить на прощанье с брательником. Как отец ушёл на фронт я не видел – рано утром он не стал будить меня. Перед этим он съездил попрощаться с родными могилками. Остались в доме одни женщины да я. Ефросинья была хорошей помощницей маме, но боялась лошадей, как чёрт ладана. В работниках у нас посменно жили дальние родственники из Солалейки, братья Яков и Семён, крестник отца. Рабочих рук не хватало – управляться нужно было на посевах в Староборискино и в Волчовке, где отец, купив в придачу 10 десятин земли с братом Семёном, засеял её гречихой. Помню, реализовав гречку, купили новую веялку. Пилить и колоть на зиму дрова приходили двоюродные мамины братья Василий и Андрей, которые погибнут в гражданскую войну. В первых числах марта мать, издёрганная необходимостью действовать на два дома, решила переехать в Волчовку. За нами приехал работник Семён. Я, проливая горькие слёзы, начал прощаться с речкой, двором, домом, где прожил шесть с половиной лет. Домну мать поставила на квартиру к отцовскому племяннику Егору оканчивать четвёртый класс. По дороге в посёлок я был пасмурным, продолжая лить слёзы. Семён успокаивал, мол, в Волчовке будет лучше, все двоюродные братья-ровесники переехали туда. После Борискино дом в Волчовке показался мне неуютным и маленьким. В избушке, кроме нас, находились телята и ягнята. В середине стояла железная печка. Спать меня уложили на полатях с поседевшим дядей Семёном, остальные легли на печке. Утром я вышел во двор, где не было даже хорошего плетня. Но скота было много. После завтрака ко мне пришли сыновья дяди Григория и Прокофия, и мы пошли играть в козны. Когда пришла весна, мы находили проталины и, разувшись, бегали наперегонки по мёрзлой земле или запруживали ручьи. А то ранним утром, по морозцу, взяв с собой вместо салазок широкий лубок, поднимались в гору. Усевшись друг за другом, стрелой летели вниз с такой быстротой, что захватывало дух. С наступлением половодья взрослые и дети вышли обозревать плывущие льдины, сверкавшие под солнцем всеми цветами радуги. На крутом повороте их скапливалось так много, что получался затор. Льдины плотно прижимало друг к другу – по ним можно было свободно ходить. Много причудливой формы льдин оставались на пойменных лугах и, как алмазы, блестели на солнышке. Гумна, крытые площадки для молотьбы, у зубаревских жителей располагались вдоль речки – гнилую солому, да и навоз они валили прямо на лёд. Мы, дети, жгли костры и, увидев плывущую кучу соломы, кидали на неё горящую головню. Она загоралась, и мы дотемна любовались красивым зрелищем. После снежной зимы полая вода текла 10, а то и больше дней. Когда снега было немного на полях, то вода, быстро прибавляющая к вечеру, к утру входила в своё русло. Выше нашего посёлка на речках Дымка и Кузьмичёвка стояли водяные мельницы, а в Ружеевке – пароводяная помещика Андриевского. Полусутки молола паром, в остальное время – водой. Как закроют шлюзы для накопления воды, то нижестоящие мельницы останавливались. В большое половодье вода разоряла их – вместе с льдинами плыло мельничное оборудование. Отец часто присылал письма с фронта. Читала их Домна. Он писал, чтобы не беспокоились за него. Служба у него, телеграфиста, безопасная. В одном письме он прислал Егору, сыну дяди Семёна, азбуку Морзе и велел её выучить, чтобы на фронте стать телеграфистом. Жил Егор с мачехой и был очень привязан к моему отцу – в Борискино цельными вечерами пел с ним бархатным тенором молитвы в хоре. Его скоро мобилизовали и, словно предчувствуя недоброе, парень уныло сказал на проводах: – Так и убьют! Хотелось бы увидеть на прощанье дядю Прокофия. С фронта Егор не вернулся – погиб. Весна для нас была радостным событием, хотя приносила для взрослых много хлопот. По оврагам ещё лежал снег, а старики уже выборочно начинали пахать и сеять. Пахали, боронили, сеяли мы с дядей Семёном вместе. У нас тягла (рабочего скота) было больше, а у дяди Семёна – земли; сообща и трудились в посевную, а уборочная шла врозь. Лес оделся в зелёный наряд, защёлкал на деревьях и в кустах на речке соловей, закуковала кукушка, значит, можно купаться. В первый раз вода показалась ледяной, но, купаясь ежедневно по несколько раз, мы притерпелись к холоду, перестали чувствовать дискомфорт. Часто рыбачили удочками с Мишей Федоруком, чей отец, по слухам, был пленён на фронте, женился и остался жить в Германии. Рыбы – щук, налимов, голавлей, язи, ершей, пескарей, окуней – было так много, что позже, летом, мы их ловили руками. На мели делали запруду, оставляя узкий проход, через которую рыба попадала в место пленения. Спрятавшись в кустах, мы, немного погодя, подбегали к запруде, заваливали землёй «ворота», а воду мутили. Рыбёшки высовывали головы, чтобы увидеть, куда плыть, тут-то мы и ловили их руками, чем доставляли занятым по горло матерям немало дополнительных хлопот. И выбросить рыбу жалко, и чистить много времени отнимают. О Борискино я теперь не вспоминал – так хорошо было в посёлке! Я торопился насладиться свободой, налюбоваться красотой природы, открывавшейся взору с высоты гор! Почти всех мужчин в посёлке взяли на фронт, женщины да старики загружены полевыми работами, за нами, детьми, некому было присматривать, и я вскоре простудился. По словам матери, я и маленьким часто болел. Лечили меня мама с бабушкой, хотя в селе была хорошая больница. Положат в корыто и обкладывают горячим душистым сеном, предварительно прокипятив его. На этот раз, в праздничный день, заметив на лице и груди отёки, мама заволновалась и решила везти меня в Бугульму к знакомой врачихе – Надежде Михайловне. Накосив зелёной травы для лошади, запрягла её и, взяв с собой фунтов десять коровьего (сливочного) масла, поехала со мной на приём. На квартиру стали на окраине города, недалеко от больницы. У хозяев была дочь, которая вязала бумажные чулки на машинке, а отец, сухой, как щепка, старичок, продавал их в ларьке на рынке – тем и жили, ещё сдавали комнату внаём. Запомнился мне здесь шарообразный холм с пороховым складом, вокруг которого с винтовкой ходил солдат. С железнодорожной станции доносились тревожные гудки и свистки паровозов, поставляющих беженцев, что тоже напоминало о войне. Недавно они появились и в Староборискино. Когда мы пришли на приём к Надежде Михайловне, она осмотрела и послушала меня через трубочку. Крикнула человеку средних лет, который, взяв меня за руку, повёл в комнату, где много было всякой стеклянной посуды с жидкостями. Вручив мне консервную банку, он велел помочиться в неё и ушёл. Я стоял в недоумении от его требования. Войдя через минуту, он усмехнулся: «Мордвинёнок не понял, что делать». Пришлось при нём сделать то, что требовалось от меня. Он начал на спиртовке кипятить мочу. Осмотрев её через увеличительное стекло, Надежда Михайловна поставила диагноз – простужены почки – стала готовить лекарство. Затем, напоив им, велела матери давать его мне, пока не выздоровею. От лекарства отёки у меня вскоре прошли, и я почувствовал себя совершенно здоровым. С того момента, помню, меня стали нагружать поручениями – беззаботное детство прошло. То пошлют с гумна за водой на родник, то под вечер, когда спадёт жара, выпускали свиней, а меня заставляли пасти их с приятелями. Заигравшись, мы забывали о них – те тут же забирались в чей-нибудь огород, на картошку. Мать, ласковая и добродушная, ради приличия поругает бывало, но никогда не била меня. Женщины по установившейся традиции на троицу брали самовар, пироги и уходили в лес отдыхать. На этот раз день был ненастный – собрались у дяди Семёна. Во время чаепития вертлявая Саня опрокинула на себя чашку и ошпарила ногу. Мать сама сделала мазь от ожога. Желток круто сваренного яйца смешала с камфарным маслом, этой смесью лечила её. Сидеть возле капризной сестрёнки она не могла, заставляла приглядывать за ней меня. Долго я мучился с ней, пока не догадался в обмен за свою свободу пообещать шмелиного мёда. В то лето в посёлке свиней пас эвакуированный мальчик Володя. Я подружился с ним. Вечерами мы искали с ним шмелиные гнёзда, лакомились мёдом. В стакане приносил мёд и Соне. Потом решили соорудить из берёзовой коры – бересты – 10 улей, куда посадили шмелиные семьи, и отнесли их в овраг. Мы были горды, что у нас своя пасека. Какого же было наше разочарование, когда нашли её разорённой! Догадались, что это созорничали братья Кузьма с Мишей из Солалейки, нанявшиеся пасти коров и овец в посёлке. Жили они бедно. К тому же, отец их «не дружил» с головой. К ним в дом часто заезжал купец, спавший на печи. Управившись с делами, мать залезала на печь к нему, а глупый муж оставался лежать на кровати. Потом обращался к торговцу, который ласкал его непутёвую жену: – Ты, наверно, чужую бабу не тронешь? – Я дурак, что ли, чужую бабу трогать! – отвечал тот. – То-то, смотри, чужую бабу грех трогать. Увидев разгромленный пчельник, мы разозлились и, найдя в ущелье кладовую, где братья-пастухи хранили краденые вещи, тоже раскидали её. Отцова крестника Семёна взяли на фронт, вместо него остался работать у нас один Яков, который был халатен, ленив и не следил за животными. Спутанные лошади уходили с пастбища и забирались на посевы, туда, где волнами колыхалась рожь или пшеница. Мать давала мне длинную хворостинку и посылала отгонять их. Гнедой масти мерин Дымка при виде меня прижимал к голове уши, открывал широко пасть и бросался навстречу, словно готовый съесть. Но длинная хворостинка быстро заставляла сворачивать к остальным лошадям. Сообразительные и хитрые, они рассыпались по всей пажити, чтобы я их всех кучкой сразу не выгнал оттуда. Выгонишь одну с нивы, пока идёшь за второй, первая снова оказывается там. Я так замучился, что заливался слезами, – а лошади всё в хлебах. Наконец прибегали мать или Яков, взрослых лошади больше слушаются и направляются на выгон. Однажды по солдатским дворам в качестве работников распределили пленных венгров. Нам дали Яшу. Дяде Григорию достались двое пленных, а соседям Куманеевым – один, хотя полагалось – за воюющего и убитого брата. Снохи, недовольные этим, часто дрались из-за него. Наконец Наталья взяла вверх над женой убитого деверя и как сыр в масле каталась с работящим венгром. А наш Яшка был хитёр, от работы отлынивал. Перед уборочной, когда хлеба восковой спелости, нарежет овсяной или ржаной соломы, завяжет голову полотенцем и сидит, плетёт шляпы, чтобы продать их в земстве в Жмакино по 3 рубля за штуку. А на просьбу матери идти с ней в поле, отвечает: «Голова болит». Вскоре их собрали и отправили на родину. От грани наших земель, в метрах двести, находился монастырский лес, и монах-объездчик часто бывал в Волчовке. Увидев его, детвора, поднимая пыль цыпкастыми ногами, бежала к старшему брату моего отца, Даниле. – Дедушка, отец Идол едет! – перебивая друг друга, сообщали они. – Ах, назолы, не Идол, а отец Нил!» – улыбался тот беззубым ртом. Этот «Идол» однажды сумел порядком насолить нам. Пастухи то и дело менялись, нередко попадая под мобилизацию на фронт, и скот заставили пасти нас, ребятишек. В один прекрасный день, как только начало припекать солнышко, коровы, задрав хвосты, умчались в монастырский лес. Мы не очень испугались – лес не посевы хлеба. Почему бы не пастись здесь скотине? Ну, мы и пасли до тех пор, пока не приехал отец «Идол» и не погнал животных в свое подворье, где, кроме здания монастыря, находились скотные дворы, водяная мельница, десяток жилых домов для рабочих и смотрителей. Мы, удручённые и виноватые, вернулись в посёлок. Старики, два отцовских брата Данила и Семён, покряхтели и двинулись вместе с солдатками вымаливать животных. – Кто вам разрешил пасти скот в монастырском лесу? – взял в оборот нашу делегацию пухлый, мясистый настоятель-хохол. – Безбожники! Греха не боитесь! Идите, скотину не получите, пока за каждую голову не привезёте по 10 возов снопов с монастырского поля! – Кто же тебе будет снопы возить, старики, что ли? – возмутились солдатки, на загорелых лицах которых с досады выступил обильный пот. – Бабам, вздохнуть некогда, вся работа, и дома и в поле, на нас – мужики-то на войне! – Не привезёте – скотину не отдадим! – заупрямился заплывший жиром настоятель. Так и ушла наша делегация ни с чем. Тогда запряг свою лошадь самый старый житель посёлка Николай Борисов. Старик он был грамотный, лет 20 работал в Староборискино лесником. – Да, вы подумайте, кого хотите заставить работать на монахов-тунеядцев – вдовиц и сирот! – продубленное временем лицо старозаветного Николая Аникеевича было строгим и даже суровым. – Сын мой, Павел, положил голову за Отечество, Василий и Филипп проливают за него кровь, а ты издеваешься над их жёнами! Я сам лесник, знаю, где можно пасти скот, а где нельзя! Лес-молодняк скот мог бы повредить, а крупным деревьям от него изъяна нет. Коровы же не свиньи, корни не подрывают! – Отдадим скотину, когда снопы нам навозите! – стоял на своём тот. – Не отдадите, тогда режьте коров и ешьте их, красномордые черти! – распалившись, выкрикнул Николай Аникеевич, гордо вскинув головой с жиденькими седыми волосёнками, и тут же пригрозил: – Думаете, я не найду на вас управу? Сейчас же поеду к земскому начальнику! – Гоните, гоните их скотину, прямо до места! – услышав это, завопил тот, качнув мясистым затылком. – Это не человек – антихрист! Больше мы не пускали в монастырский лес стадо. Пасли его по горам и оврагам. Отец и в это лето приезжал в отпуск на уборочные работы. При нём меня меньше нагружали. Я мог ходить на рыбалку, собирал грибы – мать еле успевала их солить. Сын Семёна Прокофий был в это время отпуску. Мать, нажарив ершей и наложив грибов в миску, пригласила его в гости и допытывалась у него, скоро ли кончится война, от которого все порядком устали, но тот ничего путного не мог сказать. Мать положила с ним гостинцы – орехи, которые в большом количестве росли в борискинских лесах. Родственники урожайный год набирали их возами и щедро делились с нами.
опубликованные в журнале «Новая Литература» в марте 2022 года, оформите подписку или купите номер:

Оглавление 4. Истоки к Родине любви 5. Первая мировая война 6. Иван Наумов первый |
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
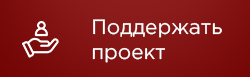 |
||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|

