Галина Мамыко
РассказИз цикла «Последние времена» Купить в журнале за декабрь 2016 (doc, pdf): 
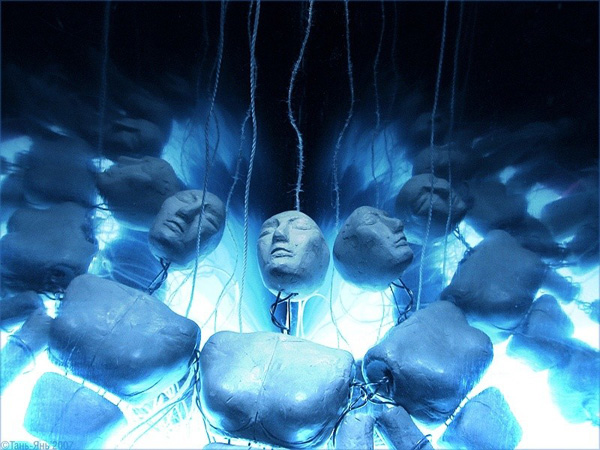
«Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы даёт им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он блюдёт, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. Господь сотрёт препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. Господь свят. Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но желающий хвалиться хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему и вознесёт рог помазанника Своего»
(Библия. Книги Ветхого Завета. Первая книга Царств. Глава 2)
– Сукин сын, ты меня ещё вспомнишь. – Ну уж нет, коровья лепёшка, пусть к моему параличу добавится склероз. – Ещё одно слово, и я задушу тебя. – Позовите Лизу, эй, Лиза, сюда! – Вот-вот, да побыстрее, моему соседу пора менять подгузники. Ну вот, кажется, она бежит, услышала, тоже мне, всех она любит, сердобольная. – Эй, Лиза, чего припёрлась? Неужели у тебя забот других нет? Мы просто тут развлекаемся. Кроссворды разгадываем. Этот идиот утверждает, что ему требуется твоя помощь. Помоги ему. – Так, это что за концерты? Вы опять сцепились? У Лизы красное лицо пьяной потаскухи. – Лиза, у тебя лицо пьяной потаскухи. – Разумеется, я именно она и есть. А теперь быстро спать. Вы мешаете всем остальным. – Да кому мы мешаем, кому? Не смеши. Этим со стеклянными глазами? Или, быть может, мы мешаем тебе целоваться с одним из таких? Расскажи наконец о твоём избраннике! Кто этот счастливчик? Может, ты себе нашла дружка в третьей палате, там все как на подбор. – Так вот почему ты сбежал оттуда. Тебе захотелось тишины как в морге. И ты её получил. Здесь самый неразговорчивый контингент. – Лиза, тебе давно пора обратить внимание на нас, мы железные парни, наши кулаки способны не только к драке. Я умею любить, поверь. Все настоящие полковники умеют любить. А я именно он и есть. Это про меня рыдала Алла. Когда-то у меня было немало подружек. А майоры? Кстати, как обстоит дело у майоров? Эй, сукин сын, ты майор или не майор, а может, ты генерал? У тебя есть подружка? Молчишь. Он молчит, Лиза. Проверь, не откинул ли он копыта, пока я с тобой убивал время на болтовню. – Ну, раз такое дело, придётся ставить клизмы. Кому-то хочется приключений на свою задницу. – О. Клизма – единственная радость в этом заведении. – Чёрт возьми, кажется, он и правда умер. Я слышу аханье Лизы, и оно мне напоминает звук дождевых капель в ржавом осеннем парке. Её толстая фигура белой лилией колышется перед моими глазами. Мне хочется, чтобы это была именно белая лилия. Но она провоняла лекарствами, и поэтому больше похожа на плавающего в фурацилиновом растворе осьминога. И это вовсе не белые нежные лепестки, сочно пронзающие синюю речную воду из моих летних школьных каникул там, у бабушки в деревне Крынки, где лодки, камыши, лягушки, деревенское молоко и ночные раки в ледяных родниках. Это обыкновенные щупальца печального, толстого осьминога в белом халате. В его глазах так много грусти, что хочется выругаться. Но когда твоё тело срослось с жёсткой кроватью, когда оно, как и кровать, способно только на скрип, и от него пахнет нестиранным бельём, понимаешь глупость слов. Слова превращаются в сухие листья, они падают с древа моей увядающей жизни, и душа зябнет, ей негде укрыться, дерево стало старым, ствол истлел, а листья уже давно гниют где-то там, в глубинах смертных, над которыми шепчутся новые, зарождающиеся жизни трав, цветов, букашек. Быстрые шаги осьминога Лизы отдаются в моих больших, разросшихся к старости на полголовы ушах. Другую половину головы занимают бородавки, в которые, подозреваю, перекочевал мой отживший мозг. Длинный больничный коридор поёт и гудит от шлёпанья Лизиных ног. Нет, это поют мои нервы, они такие звонкие и яркие, а вместе с ними поёт моя кровь, и всё это перезванивается в моих слоновьих ушах тысячами колокольчиков весёлых зимних саней, на которых когда-то мы катались в глубоких снежных оврагах заполярной тундры, и заключённые махали нам руками, и мы любопытной толпой подбегали со смехом к затянутым колючей проволокой заборам, волоча за собой на верёвках санки. И мужчины в тёмных, провонявших тоской и потом робах, с красными, обветренными, грубыми лицами смотрели на нас пристально и насмешливо. Их глаза казались нам дикими, как у волков, и нам было страшно и весело чувствовать близость неизвестного, жуткого. Эти люди перекидывали через высокие, в острых шипах, деревянные ограждения свои безделушки, которые они где-то в печальных тюремных цехах весело и с надеждой на барыш мастерили, они хотели, чтобы взамен им принесли вкусного, дурманящего, как молодость, чёрного, злого чая. Местные дети радовались полученным от зэков плетёным из мягкой проволоки сувенирам, и бросали арестантам пачки чая. Из чая те варили себе чифир. Случалось, мальчишки дурили зэков и швыряли им завёрнутые в цветную бумагу коробочки с землёй. Тогда от гнева лица невольников темнели, глаза становились узкими, эти люди в бессильной злобе рыкали как львы в зоопарке, грозили кулаками, выкрикивали ругательства, но уже по заснеженному двору строящегося сангородка шёл часовой, сердито покрикивая, мы убегали и больше ничего не видели и не слышали, кроме своего смеха, скрипящего под ногами тугого снега, снежных гор и солнца, прыгающего по слепящим сугробам.
– Что с ним? – слышу я голос с дальней койки в углу. – Ну что-что. То же, что будет со всеми нами, – отвечаю я. Я говорю без особой охоты. Мне хочется молчать и вспоминать детство. Но с другой стороны, разговор с живым человеком здесь редкость. В этой больнице так всё ненадёжно. Сегодня ты не знаешь, будешь ли жив завтра. И тем более не знаешь, будут ли живы другие, такие же, как и ты, зверьки в коконах казённых постелей. У всех одно и то же. Нет сил. Нет прав. Нет воли. Нет ничего, кроме кровати и судна. В такой ситуации тянет на философию. И я думаю о том, что в той жизни, в которой я мог передвигаться на своих двоих, ведь тоже никто не знал, что будет завтра. Мы просто не хотели над этим задумываться. Мы предпочитали для себя иллюзию вместо жизни. Но теперь-то я точно знаю: единственное, что реально в этой жизни, это смерть. Всё остальное большая и смешная иллюзия. – Знаешь, что хочется больше всего? – спрашивает голос. – Ответов несколько. На судно. Умереть. Влюбиться… Нужное подчеркнуть. – Закурить. Об этом я мечтаю так же сильно, как тогда, когда меня выбросили из этой замечательной больницы на мороз. – Ну-ну. Расскажи. Как и все здесь, я любопытен и обожаю чужие воспоминания. А чем ещё заниматься. Публичная исповедь, вот к чему тяготеют люди в таких заведениях. Невыплаканность души – вот основной диагноз. – Это началось давно. Когда я ещё был женат. Её раздражало буквально всё во мне. Ну, сам знаешь, обычный мужской набор: разбросанные носки, нечищеная обувь, невымытая посуда… Но, думаю, её раздражал сам я. Меня тоже кое-что не устраивало. Это её любовь к шефу, в приёмной которого она на правах секретарши принимала звонки и носила ему бумаги. Бегала, сволочь, резво, элегантно, на своих мерзких шпильках, со своей приклеенной улыбкой, со своими кудряшками из салона красоты, бегала, понимаешь, каждый день и каждый час в его кабинет! Я, бывало, приду, топчусь у входа со своей виноватой рожей, а меня охрана не пускает. Я им говорю: жена у меня там. А они ухмыляются. Понимаешь. Ухмыляются, гады. «Пропуск нужен». Слышишь, это мне-то к жене пропуск? К жене – пропуск, слышишь? Короче, я одному из них двинул. И ты думаешь, мне что-нибудь было? Ни-че-го. Она своего, этого, упросила замять. То есть чувствуешь, да? Имела, значит, на него влияние, вот что самое главное! В общем, наступил день, когда она выгнала меня из дома. Ревность моя ей надоела. Можно подумать. Тут надо глубже копать. Но копать было уже негде. Квартира принадлежала-то её родителям. Поехал я в гостиницу и стал там кутить с друзьями, пока не спустил все свои заначки. И стал я никому не интересен, даже милиции. Бомж он и есть бомж. И сел я посреди своей жизни, огляделся, а до горизонта никого и ничего, схватился за голову и завыл, и выл я одно и то же: кидают, бросают, гонят, всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь. Это был автобиографический вой. Ты сейчас поймёшь весь пофигизм социалистического реализма. Рассказываю. Слушай. Когда мне было полтора года, меня кинула моя страна. Она забрала у меня отца. Это случилось ночью. Государство по имени СССР явилось к нам в дом в виде тёмных субъектов, для того чтобы увести из дома моего отца-военного. Но не на войну. Его увели на расстрел. Монстр по имени КПСС был людоедом. Он пожирал и пожирал. Это был такой ритуал. Жертвоприношение на алтарь партии. А когда мне исполнилось четыре года, соседка написала ложный донос на мою мать. Соседка хотела заполучить нашу квартиру. И она это сделала, когда мою мать расстреляли. – Так хоть потом реабилитировали отца с матерью? – А куда им деваться. Но мне-то что от их реабилитации. – А тебя, малого, куда? – Приютил на год-другой, не знаю даже, кто и что, но какой-то родственник. Потом прилетел ещё один, тоже не известный мне, сказал, что он мой родной дед, – фабрикант из Канады, с намерением увезти внука-сироту к себе. Но Москва посчитала это «не целесообразным». Более целесообразным оказался ад, которым для меня стал детдом. (Дед из Канады потом искал меня. Незадолго до того, как эта стерва выгнала меня из дома, на наш адрес пришло письмо из посольства, потребовалось подтверждение, тот ли я самый, которого ищет родственник из Оттавы. Я не ответил, мне было всё равно, это была депрессия. Но отец Алипий, мой духовник, о нём ещё расскажу, узнав об этом, вёл поисковую работу и на днях сказал, что меня ждёт сюрприз). В четырнадцать лет у меня обнаружили опухоль в груди, и определили «под нож» к приехавшим в поисках жертв врачам-американцам. Экспериментальная операция, к их удивлению, прошла успешно. Видно, кто-то из предков здорово молился за меня на том свете. Теперь, думал я после выписки, мне уже ничего не страшно. Оказалось, страшно. Этим «страшно» стали три пьяных мента. Они припёрлись в детдом в середине ночи. Их вызвала нянечка к «старшим детям». За полчаса до этого нянечка в приступе беснования прибила шваброй одного, донимавшего её, семилетку и, струхнув, надеялась пустить ищеек по ложному следу. Менты ходили по нашей, на двадцать человек, палате, и выбивали показания. С тех пор у меня работает только одна почка… Послушай, я уже забыл, что хотел тебе рассказать. – Ты сказал, что тебя кто-то выкинул на мороз, и с тех пор ты изнемогаешь от желания курить. Ещё ты обещал рассказать про какого-то священника. – А... Это было в прошлом году. Меня в очередной раз доставили сюда, этажом ниже. В хирургию. И ампутировали обмороженные ступни. А когда пришло время, выволокли на улицу. Я их понимаю. Мой адрес не дом, и не улица, мой адрес бывший Советский Союз. А точнее – тундра и немножко город. Кусты, овраги, подвалы, подворотни – в моём распоряжении. Я стал зверем. Конечно, на моей далёкой родине, на берегу Чёрного моря, было лучше. Что и говорить, Заполярье – место для бомжей неподходящее. – Тю, так ты с югов, на фига было сюда переться. – С кем-то пил, с кем-то чудил, в товарняке ехал, куда, зачем… А оказалось, в тундру. – Так тебя и впрямь на мороз, безногого? – А что им было делать. Им зарплату не дают за таких, как я... Я их понимаю. – Ну и что ты делал? – Я же тебе рассказываю, я хотел курить. Полз по снегу и хотел курить. Вот и всё. Но, правда, я полз целенаправленно. На колокольный звон. Знаешь, хотя от церкви я в своей жизни был далёк, но во мне с детства жил Бог. Он всегда со мной. Наверное, это зов наших предков. Я верю, что если покопаться, то в родословной каждого из нас можно найти хотя бы одного святого. Молитвенный дух впитался в нас, он в крови, и именно эта штуковина оказалась Советам не по зубам. – Я на эту тему тоже думал. Я тебе изображу, что намедни сочинил. Плюс моего больничного безделья: песни. Это помогает не раскисать. Я прокашлялся и запел. «В краю больных, слепых, убитых Мне довелось прожить всю жизнь, Сердца здесь на замки закрыты, и не стремятся души ввысь! Больные из страны угрюмой, До самой смерти мы больны, В пустыне мёртвой и безлюдной Век доживаем. Мы – одни. Мы одиноки. Мы без Бога. Нас отлучили от Него. Мы дети тьмы. Нас очень много. И нам не надо ничего. Нам Ленин был вместо иконы, Нам серп и молот был крестом, Из ада слышим чьи-то стоны, Уж не туда ли мы идём?» Он дождался, когда я закончу петь, задумчиво поглядел на меня и продолжил свой рассказ. – И вот теперь, когда я оказался на шаг от смерти, вездесущий Бог заговорил. И говорил Он языком колокольного звона. Я слышал, как Он звал меня к Себе. А теперь мы и подошли к обещанному рассказу о священнике, ставшем центральной фигурой в моей дальнейшей жизни. Недалеко от церкви этот человек увидел меня. Служба закончилась, он шёл домой. Он повздыхал надо мной, потом взвалил на плечи и понёс к себе. Всю дорогу он бормотал «Господи, помилуй»... – …И что дальше? Чего ты замолчал? Я повернул голову. Белый профиль покойника. Под одеялами силуэты неподвижных людей и покрытое ледяными наростами огромное заснеженное окно. Лицо того, у окна, который говорил со мной, в слезах. Я ждал, когда он продолжит свой рассказ. – Я остался у этого человека. Вернее, он оставил меня у себя. Только святой может согласиться терпеть в своём доме таких, как я. В его квартирке, помимо меня, ютилось ещё двое, подобных мне, он нас выхаживал. Его имя, как я потом узнал, известно в этих местах. Он подбирает замерзающих бездомных и тащит на горбу к себе. Говорят, немало из его подопечных встало на путь исправления. Он монах. Я засыпал под стук его поклонов и шелест чёток. Он приходит сюда. В чёрном подряснике, с крестом и дароносицей на груди. Он приносит с собой Запасные Дары. Он ходит по палатам, он причащает тех, кто хочет быть со Христом. Правда, желающих Причастия вечной жизни совсем мало. – Кажется, я знаю, о каком иеромонахе ты говоришь, я видел его здесь…
– Где тут мой родственник? В дверном проёме вырос приземистый, корявый пень в унтах, в ватнике, с шапкой-ушанкой под мышкой, его насупленные кустистые брови иногда шевелились, и тогда были видны быстрые злые глаза. Он опирался на костыль. Хромая, стуча по больничному линолеуму костылём, Пень прошествовал к моему соседу, постоял молча, потом чертыхнулся, пихнул покойника, освободив себе на кровати место, сел и закурил. – Здесь вообще-то не разрешают курить, – сказал я. – Плевать. – Раз такое дело, угости, брат. Это сказал тот, у окна. Но, видно, некоторым курить хочется и после смерти. Мой умерший сосед сказал: – Игорь, гадёныш, объявился-таки, зачем, спрашивается. Порадоваться на мою смерть? Быстро давай сюда свою поганую папиросу. Ты по-прежнему дымишь моим «Беломорканалом», ишь, сволочь. В палате завоняло тем далёким советским табачным прошлым, в котором я любил жить на широкую ногу и не заглядывать в завтрашний день. Не утверждаю, что с годами я стал святым, но то, что я теперь с крестом на груди, да ещё с кривой после инсульта физиономией, в этом никто не усомнится. Я посмотрел на своего недавнего собеседника в углу, наши взгляды встретились. – Тебя как зовут, друг? … – спросил я его. – …Ну вот, Миша, и познакомились. А меня Лёнчик-Лимончик. Миша, тебе не кажется, что здесь запахло не только табаком, но и чем-то погорячее? Ты недавно говорил, что больше всего на свете хочешь курить. А я вот давно не дрался. Когда-то я был неплохим боксёром, и однажды случайно победил занесённого в наши края самого Марка Кривого. Говорят, Марк был заядлым картёжником, у их братвы в тот год проходил в нашем городе свой подпольный съезд. Завистники болтают, что моя победа над Марком на ринге смогла состояться лишь потому, что Кривой Марк был в тот день пьян в связи с картёжным проигрышем. Но пусть эти утверждения останутся на их совести. Ты ведь слышал, наверное, о том нашумевшем поединке, а? – Нет, Лёнчик, не слышал. Но, думаю, даже и твой поединок нельзя сравнить с тем, что происходит в этой чёртовой палате сию секунду. Я с ним согласился. То, что творилось рядом со мной, было ужасающим зрелищем. Пень оказался сыном этого полупарализованного старикана, который досаждал мне капризами и храпом. Однако, что за больница, здесь кровати стоят слепленными по две. Может быть, архитекторы такой планировки собирались загружать сюда сиамских близнецов. В результате я вынужден терпеть на себе чужих тараканов. В этом здании время остановилось. Здесь нет телевизора, нет радио, нет занавесок, и тем более комнатных цветов, а потолок в пузырях и подтёках. Случается, что-то сыплется сверху на лицо, из батарей течёт, а вызванный Лизой слесарь приходит пьяным. Однажды мне приснилось, что в палату вошёл Сталин, обвинил нас в антигосударственной деятельности из-за того, что вместо фронта валяемся в кроватях, и приказал отправить нас в ГУЛАГ. В нашей многоместной палате только три человека подают признаки жизни, остальные репетируют роль покойников. Я был по-своему рад, когда услышал голос воскресшего соседа. Теперь мне снова не будет скучно, подумал я. (Кстати, как его зовут?) И вот теперь что я вижу. Сын объявился, для того чтобы задушить отца. Не успел тот воскреснуть… – Послушай, сволочь, – сказал я. – Ты зачем его душишь? Пень оставил в покое старика и недобро посмотрел на меня. – А ты хочешь, чтобы я начал с тебя? – Я хочу, чтобы ты убрался отсюда. Вот что. Зачем ты здесь? У этого старика всё равно нет мозгов. Он и без твоей помощи одной ногой на том свете. Какой смысл его убивать. Ты лучше подумай о том, что тебя потом всю жизнь будет мучить его призрак. Или ты не веришь в привидения? Скажу тебе по секрету, мне в своей жизни доводилось встречаться с теми, кого преследовали фантомы убитых ими людей. Но что поделаешь, когда идёт война, и тебе то и дело отдают приказ стрелять. И ты идёшь и тупо стреляешь в тех, кто ещё не так давно в той, иной, жизни вместе с тобой курил одни и те же папиросы, пил с тобой одну и ту же водку и хлопал тебя по плечу. Что ты знаешь об этой жизни, а, брат? Ты, поднявший руку на родного отца, ответь мне, видел ли когда-нибудь, как тысячи обезумевших братьев убивают друг друга? Как прозревшие славяне плачут и едят землю, в которую закопали других, убитых ими, точно таких же прозревших (правда, уже после смерти) славян? Как православные христиане молятся об упокоении убиенных ими других православных христиан? Возьми в моей тумбочке, вон там, пакет, там ты увидишь кучу фотографий, многих из тех людей уже нет в живых. Когда-то там, в другой жизни, я пел им свои песни. А потом всё стало не так. Тебе не кажется, что инсульты – это слишком мало, и это лишь смешная расплата (или награда?) за всё, что там, где наши парни месят друг друга. В каком-то фильме мне запомнилась фраза, что самое страшное не мировая война, а гражданская война. Пень поднялся, ушёл к окну, расковырял чёрным ногтем дырку в ледяной корке, заглянул и успокоился. Наверное, он увидел за стеклом ледяных ангелов, которые каждую минуту уносят на небо души дождавшихся наконец своего часа счастливчиков. Когда-нибудь и я просочусь через дырку в замороженном окне и улечу в неизвестном направлении.
Я протянул руку, нащупал на полу гитару. Я пел песню, что приснилась мне минувшей ночью. «А за окном нелётная погода, а за окном нелётные дожди, И сыплет пылью мокрой с небосвода, И шепчут губы мёртвые: не жди. Не жди меня, подруга жизни из страны ненужной, Меня давно убили, я не твой, Мне Родину любить уже не нужно, Я сам себе уже давно чужой. Лежу я в поле где-то на востоке Земель чужих, хотя и сам хохол, И Ангел душу на руках уносит, Туда, куда всю жизнь я тихо брёл. Туда, где нет ни слёз, ни бед, ни горя, Там Дом нас ждёт, навечно наш, родной, Отец небесный там… А где-то кто-то стонет, Там, на Земле, идёт последний бой…» – До меня лишь сейчас дошло, ты – тот самый Лимончик. О тебе ходят легенды. Ну ладно – я, а тебя-то какими судьбами занесло в эту дыру? – сказал тот, который назвал себя Мишей. – Ностальгия. Захотелось вернуться в детство. Проведать могилы родителей. Вспомнить мальчишеские салазки, сугробы, первую школьную любовь… Проведал, называется. На кладбище прихватило. Сторож меня с мертвецом перепутал. «Сторож меня с мертвецом перепутал, Сторож меня в морг отволок. Долго лежал я возле трупов раздутых, Долго смотрел я в пустой потолок… Ну а потом санитары напились, И захотели в карты сыграть. «Братья, не надо, здесь чьи-то могилы, хватит вам память людей осквернять». Это сказал я голосом слабым, Тихо стоная, рукой шевеля. «Больше не будем», сказал кто-то рядом, И повалился без чувств на меня…» – Ха-ха. Это что, тоже твоё сочинение? – сказал Миша. – Не обращай внимания. Пустяк, экспромт. У меня это бывает. Но я хотел не про мертвеца, извини. Вот, слушай. «Я седой и понурый, будто пёс, всё скулю, Жизнь пропета напрасно, и душа как в бреду, Боже, Боже, помилуй, вот о чём я шепчу. Боже, Боже, помилуй, помоги, я в аду. Умираю, спаси, ухожу, о беда, Где ты, Боже, прости, молит, просит душа…» – Просит, молит. М-да. Но цепляет. Надо же, вживую слушаю Лимончика. Кстати, твои песни изменились. Раньше в них не припомню Бога. – Тогда мы все жили вне Бога. Глупо жили, надо сказать. – Почему глупо? – Потому что жили как бессмертные. «Нам было море по колено, Нам жизнь казалась вечным сном. Нам Ленин был святою верой, Мы говорили «будь готов!» И каждый был готов – для рая В своей родной большой стране, Мы жили, не подозревая, Что смерть близка, что смерть в цене. Над Богом мы смеялись громко, Кресты с церквей кидали вниз, Но вот – очнулись, слишком поздно, Нет ничего, и только свист. Кто там свистит над степью грозной, Залитой кровью сыновей, Пророчит кто: «Теперь всё можно!», И есть ли кто вообще живой…» – Тю. И правда, ты ж Лимончик, – сказал Пень, и его мёртвые губы ожили. Улыбка делала ещё более диким это страшное, деревянное, перепорченное глубокими злобными шрамами, вперемешку с морщинами, лицо убийцы. – Вот где я видел тебя, теперь вспомнил, – покинув отца, стуча костылём, он обогнул сдвинутые кровати и пересел на мою сторону. – Где? – Ты приезжал к нам, на линию фронта. – Не помню я такого. Инсульт память отшиб, – соврал я. Мне хотелось услышать посвящённый мне и моему прошлому рассказ. Это болезнь славы. Увы. Ненавижу в себе вот это. Я привык к славе. И тяготит информационный вакуум. Не нравится, что меня могут забыть в том пустом, суетящемся о самом себе мире, я давно не люблю этот мир, но не могу без него, я привык к нему, я привык к самому себе в этом мире, я стал одним из тех, кто, как и я, суетится, снуёт, мечтает о себе самом. Я боюсь, что они забудут обо мне. Слава вызывает зависимость. Жажда славы – ужасное состояние. Увы мне. Вот и сейчас. Я готов упиваться чужими воспоминаниями обо мне. – Расскажи, – сказал я. – Ты пел свои песни в разбитом снарядами, полуразрушенном Доме культуры. Это было необычное зрелище. Полубезлюдный город с продырявленными домами, с заложенными кирпичами окнами, этот город был похож на умирающего человека. Его раны от гаубичных снарядов и «градов» кровоточили. Всё было вокруг страшно, да, всё было по-настоящему страшно и тревожно, и казалось, что конец света уже наступил. И вот посреди этого армагеддона нам предложили послушать песни… И это были не просто песни. Да… Это были не просто песни, чёрт возьми… Наш батальон тебе аплодировал стоя. Мы кричали «бис!», и были такие, кто плакал, и всем было наплевать, видят его слёзы или нет. Там, где смерть, всё воспринимается иначе, в том числе и слёзы. Мы знали, что завтра не все из нас смогут снова услышать твои песни. В бой мы шли с твоим гимном. Пень прокашлялся и забормотал, имитируя пение. Это была моя старая вещь, из тех, что я писал в патриотическом порыве, когда война только-только разгоралась, и была романтика, были идеалы, но и было непонятно, кто с кем воюет, то ли украинец с русским, то ли майдановец с ополченцем, или просто все обезумели и палят в самих себя. «Вперёд, друзья, на бой последний, нам умирать настал черёд. Вперёд, за Родину, в бессмертье, Да будет с нами вечный Бог! Наш батальон не сдаст ни пяди, Ведь это русская земля, Не отдадим её той мрази, Что кровью метит города. Мы встанем гордою стеною Перед всем тем, что к нам грядёт Вонючей, мерзкою ордою, И зло в страну нашу несёт».
Рядом со мной закашлялись. Это кашлял отец Пня. Его кашель напоминал лай собаки. Пень замолчал и посмотрел на отца. – Может быть, сейчас я написал бы иначе. Кто знает. Большое видится на расстоянье… – сказал я и тоже покосился на старика, потом перевёл взгляд на его сына. – Послушай. Зачем ты хотел совершить этот ужасный поступок? (Я указал глазами на лающего соседа). – Я возненавидел его… (Пень кивнул на отца, тот смотрел в потолок). – … когда узнал, что квартиру он переписал на любовницу. А где жить моей семье, детям, внукам? – Лучше заткнись, – подал голос старик. – Теперь ты будешь строить из себя кретина? – ответил отцу Пень. – Теперь ты будешь говорить, что инсульт отобрал у тебя память? Так смотри, я принёс ксерокопию дарственной, её мне вручила твоя проклятая Эмма. Эта шлюха уже сейчас готова выгнать всех нас из дома. Она ждёт не дождётся твоей смерти. И, небось, ни разу не проведала тебя. – Ну и что с того. Мне всё равно. – Не ври. – Твоя жена и дети тоже меня ни разу не проведали. – Ещё бы. Ты предал их. Тоже мне, заботливый дед. Оставил внуков без крыши над головой. – Не преувеличивай. Их никто не гонит оттуда. Эмма не так ужасна, не приписывай ей того, чего нет. Ты лучше о своей матери вспомни. Ты предал её память. Ты пошёл убивать тех, среди которых могли быть земляки, родственники твоей матери. И ты ещё удивляешься, почему я не стал отписывать тебе квартиру. – Так, по-твоему, лучше сидеть сложа руки и смотреть, как гнобят на Донбассе русских? Хватит, отец. – Не хватит, не хватит. Это из-за тебя я получил инсульт. Это ты свёл меня в гроб. Будь проклят тот день, когда я нёс тебя из роддома, и твоя мать-хохлушка улыбалась нам обоим. – Хватит, я сказал. Пусть твои речи о предательстве слушает твоя проклятая Эмма. Видела бы мама, в какого жеребца ты превратился после её смерти! Ты ещё спрашиваешь, почему я ушёл на войну. Тоже мне, совок из СССР. – Не сметь! Не сметь, я сказал! Никому не сметь, ни тебе, ни тебе (он ткнул в меня), ни всем вам, никому не сметь пачкать Советскую Родину. Союз нас сделал людьми. Мы жили с верой в будущее, мы были готовы жизнь отдать за Родину, но не за ваше это «бабло». Наши девушки и юноши были чисты и целомудренны. Наши бабушки и дедушки были благородны. Наши отцы и матери жили по совести. И совесть для них была главным мерилом жизни. Мы не знали, что такое «порнуха». А сегодня – что? Какие идеалы, какие перспективы? Народ помешан на айфонах, ноутбуках, мебели, машинах, глупых песнях, сериалах, пиве, сексе... Вот в кого выродились, вот в кого превратились. Я посмотрел на соседа. Его лицо побагровело. Губы тряслись. Он сжимал сухой белый кулачок над одеялом. Мне стало его жалко. – Эй, ребята. Пора бы вам обоим заткнуться, – сказал я. Они меня не слышали. – Говоришь, совесть была мерилом жизни? А то, что Союз был страной несунов, и тащить с работы считалось в порядке вещей? С этим как? Впрочем, какое сейчас это имеет значение. Я вчера вернулся оттуда. А мог и не вернуться. И, наверное, ты на это рассчитывал, когда ставил подпись под этой иудиной бумажкой? Неужели ты так и не понял, для какой цели ты был ей нужен? Только не говори, что вы любили друг друга… – А зачем ты вообще вернулся оттуда, с этой твоей войны, а? Ну и торчал бы там, глядишь, быстрее на том свете встретились бы. – Видишь костыль? Если бы не ранение, я бы продолжал воевать... может быть. – Может быть? Ага, ты сказал «может быть»! Значит, убедился в нелепости своего безумного патриотизма? Я правильно тебя понял? А?! И для этого понадобилось лезть туда и убивать? Убивать, чтобы прозреть?! – Давай не будем. Сейчас всё это уже не важно. Ничего не важно. Ничего. Ни в чём нет смысла. Ни в чём. Лишь когда видишь смерть, тогда понимаешь, вот что важно. Перед лицом смерти нет ни своих, ни чужих, все одинаковые. Когда я тащил того хлопца на себе, он был ещё жив. Это я стрелял в него. А потом он сказал: «Слухай, ми з тобою вчилися в одній школі. Пам'ятаєш, ми разом грали у футбол?». И я поверил ему. И было неважно, что он ровесник моему сыну. Я тащил его километра два, думал успеть, в больницу. Перед тем, как умереть, он сказал: «Господи, помилуй мене, о, який же я був дурень»… Что говорить. Никто не хочет войны. Никто. Но есть те, кто ненавидит всех нас, неважно, из России мы или с Украины. Они есть. И они ненавидят нас, а почему? Они боятся. – Кто – они-то? И чего им нас бояться? – сказал старик. – Понятно, кто. Те, кто руководит этими процессами, а ещё есть их марионетки, ну, те, кто им подыгрывает... Они боятся нашей силы духа. И вообще нашей силы. Нашей веры. Вот это я понял. Там, эти человеки, что бегают с автоматами и делают друг в друга «пиф-паф», они не знают, что к каждому из них приделаны верёвочки. За эти верёвочки дёргают, и человеки бегут, стреляют, кричат… Их заставили поверить, что они ненавидят друг друга. Вот что. Это моя философия. А там не нужна философия. Но и бомбы там не нужны. Потрібна не философия, а нормальная жизнь. Русским не дают нормальной жизни там, на востоке. Вот что. Если бы не ополченцы, там уже орудовали бы националисты. Фашизм хотят искусственно навязать всей Украине. Но народу это не нужно. Вот что. Мне жалко украинцев, тех, простых. Но я шёл воевать не с ними. Я шёл воевать с фашистами. А встретил «звичайних хлопців», и не только украинских, по ту сторону баррикад полно и тех, чьи предки всегда считались русскими, вот что страшно. Их кинули в кипящий котёл. Там полная каша. Там варят кашу из русских и украинцев. И приправляют перцем из огнемётов. Пень говорил быстро, горячо, его голос был хриплый. Казалось, что у него жар. Майор приподнял голову, посмотрел на сына, хмыкнул. – Ты, наверное, был контужен. – Ага, майор Семерицын ожил, вот так-так, и это славно, потому что санитары по случаю выходного пьяны, и таскать покойников некому, – Лиза радуется так искренне, что мне становится завидно и тоже хочется быть искренним. – Так ты и правда майор, – сказал я старику. – А я всего лишь придуманный персонаж из песни про полковника. Но я рад, хоть ты оказался настоящим. – Не наговаривай на себя, ты лучше, чем хочешь казаться, – Лиза так смеётся, что мне хочется на ней жениться. – Лиза, ты так смеёшься, что мне хочется на тебе жениться, чёртова потаскуха. Я никогда не был женат, ты можешь в это поверить? – На потаскухах, сам знаешь, не женятся. Так что лучше клизму, которую ты так ждал.
– Здравствуйте. Извините. А Миша в этой палате? О, Миша… Я тебя не узнала. Здравствуй. К кровати бомжа Миши прошли худая, болезненного вида женщина в тёмной косынке, в накинутом на пуховик белом халате, и пожилой представительный мужчина с мрачным лицом, хорошо одетый, с кожаным саквояжем. Заметив мой любопытный взгляд, он слегка поклонился мне и сказал без улыбки: – Меня зовут Майкл. – А я – Лимончик. Он сказал, усмехнувшись: – Русская мафия? – Был бы он мафией, не лежал бы в этой дыре, – сказал Миша. – Кстати, Лёнь, а правда, почему ты здесь-то? Народные любимцы должны лечиться в вип-клиниках. «Всё, чем владел, роздано нищим, ну, а концерты мои с некоторых пор благотворительные», – но я сказал другое: – Я в этом городе инкогнито. – То-то, смотрю, ты без мобилы. – Ну, смартфон мой, подозреваю, слямзили санитары в морге. А во-вторых, к тебе пришли гости. Поздоровайся хотя бы. – А чего здороваться. Я же говорил тебе, жду гостей. Вот мои сны и сбылись. Это она выгнала меня из дома. Лариса. Я тебя, между прочим, забыл. – Миша. Этот господин – твой родственник из Канады. Он искал тебя по всему свету. Как и я тоже. А ты прославился. Телеканалы крутили, как тебя, без ног, выбросили на мороз врачи. Даже за границей про тебя показывали. – Так что ты, иностранец, от меня хочешь? – Брат мой. Тебе дед перед смертью отписал наследство. – То-то, думаю, Лариса такой доброй стала.
– Спаси Господи, всем доброго здравия, – в палату вошёл высокий сухощавый монах, он внимательно оглядел людей. – Обещал мандаринов привезти. Монах прошёл по палате, раскладывая на тумбочках мандарины. Мандарины он вынимал из пакета, в палате стало весело от мандаринового сияния. Все молча наблюдали за ним. Он присел на свободный стул возле умывальника и стал ждать возможности пообщаться с Мишей. – Миша. Поедешь со мной в Канаду? У меня большой дом, дружная семья. Моя жена, как и я, тоже имеет русские корни. У нас дома все, включая прислугу, говорят на русском. У тебя всё будет, ты перестанешь грустить, – сказал Майкл. На его лице по-прежнему сохранялось мрачное выражение. – А моё наследство? – Твоё наследство – здесь, – Майкл скривил губы в подобие улыбки и хлопнул по саквояжу. – Тут документы. Об этом не думай. Мы с тобой всё оформим. Тебе одному здесь, в России, плохо. Тебе нужен уход. Поэтому я тебе предлагаю ехать со мной. Решай прямо сейчас. Потому что я очень мало смогу быть в этом городе. Если ты скажешь «да», то уже завтра мы с тобой улетим отсюда. – Я бы согласился, – сказал майор. – А я бы нет, – сказал его сын. – Жить на чужбине? Я бы недолго выдержал. – А я не знаю, – сказал я. Мы замолчали, взвешивая «за» и «против», надо ли нам лететь в Канаду с Мишей, на наших глазах превращающимся из бомжа в царевну-лягушку. – Вы не бомжи, а я бомж, и у меня выбора вообще нет, – сказал нам Миша. – Я согласен. Не могу же я всю жизнь сидеть на шее у отца Алипия. Правда, отец Алипий? – Я тебя не гоню, Миша, – сказал монах. – Знаю. Но надо и совесть иметь. Хотя покидать Родину, не скрою, страшновато. Мне однажды довелось погулять с женой несколько дней в Прибалтике, там хорошо, чисто, красиво, но – неуютно: чужая речь, косые взгляды на нас, русскоязычных, такое ощущение, будто ты потерялся. – А как же я? – сказала жена Миши. – А ты к своему начальнику возвращайся. – Ну, какой начальник, какой начальник. Нет его уже. – А что так? – Инфаркт. – Царство ему небесное. Так ты что, надеешься на свою долю в моём наследстве? – Миша. Не нужно мне уже ничего. Я попрощаться к тебе приехала. Извиниться перед тобой хочу. – Что-то на тебя не похоже. – Рак у меня, вот что. Бог меня наказал, Миша. С катушек съехала, когда без тебя осталась. Губы накачала, восемь кубиков из моего жира мне ввели в каждую губу. Талию уменьшила, ради этого два ребра удалили мне. Даже цвет глаз теперь у меня другой. Лицо, ох, дура, подправляла… Но когда до увеличения груди дело дошло, что-то пошло не так. А вскоре выяснилось – рак. И мне удалили грудь. У меня нет теперь груди, Миша. Но рак остался... Прогневила я Бога. Вот, спасибо, твой отец Алипий объявился на горизонте. Нашёл и меня, и родственника твоего из Канады. Если бы не отец Алипий, то не знаю, как бы я выдержала всё это... А он писал, звонил, поддерживал… – Вот как… В палате стало тихо. Из крана капала вода.
– Майкл. Ты вот что. Я поеду с тобой. А ты, знаешь, что… Ты можешь мне услугу оказать? Одолжи в счёт моего наследства миллиончик… Прямо сейчас. Послушай, эй, моя бывшая жена, или как там тебя, моя бывшая дорогая, или нет, не моя… Лариса, сколько тебе надо денег на лечение? – Нисколько. Она плакала. Иногда что-то потрескивало в окнах, иногда вздрагивал потолок, и тогда мне что-то падало на лицо. – Или нет. Одного миллиона мало. Надо ещё парочку. Квартиру во-он тому типу купить. Чтобы отца не душил. Слышь, тип? Купишь себе квартиру. – А мороз крепчает, слышите? – сказал я. – Трещит. – Да, трещит, – сказал монах. Потом на нас всех посыпался снег. Я смотрел, как снегом закрывает людей, и думал о том, что в этой больнице, видно, со времён Октябрьского переворота не делали ремонтов. Потом стало тихо и темно, это снег закрыл мои уши, мои глаза, и мне стало хорошо. Я думал о смерти. Может быть, я уже умер. А может быть, все умерли. И никто не успел улететь в Канаду. И жена Миши не успела умереть от рака. Ей повезло. Она не умерла от рака. Она умерла от прекрасного, пушистого снега. А майору тоже повезло. Сын так и не успел его задушить. И сыну повезло. Он не успел стать убийцей отца. И все-все умерли. И теперь всем хорошо. Но почему я не вижу Бога? Если я Его не вижу, то, значит, я ещё не умер. И придётся ждать, когда приедет МЧС и откопает нас из этого снежного завала.
Потом у меня снова появились уши, и я услышал, как воет сирена. Потом у меня появились глаза и нос, и я увидел дым, ощутил запах гари. Какие-то люди поднимали и несли других людей. Они несли куда-то жену Миши, самого Мишу, его канадского родственника, майора Семерицына и его сына, они несли куда-то меня, и я слышал их голоса. Монах помогал им, и тоже кого-то нёс. И чёрные мандарины прыгали под ногами. Я плохо понимал, о чём говорят все эти люди. Я видел белое лицо Лизы. Оно улыбнулось мне, когда Лизу пронесли мимо меня. Лиза-Лиза, я так и не женился на тебе. – Что случилось? – спросил я руку возле моих глаз. Рука пошевелилась и ответила громко и отчётливо: – Мы сами не знаем, что. Всё рушится. Война, наверное. Или землетрясение. Ну, или теракт. – Да какой ещё теракт. Кому мы нужны. Это, конечно же, мировая война, к этому всё шло, – откликнулся голос бомжа Миши, не успевшего стать богачом. – Эй, Лимончик. Спой напоследок. Умирать – так с музыкой. «О какой войне вы говорите. Это здание не ремонтировалось со времён царя Гороха», – хотел, но не сказал я. И стал слушать себя. Я пел. Это был мой очередной экспромт. Сколько их за свою жизнь я спел, чтобы тут же забыть. «Не надо песен, не надо снов, Сегодня мир умирает без слов, Сегодня для всех наступил тот миг, Когда не смех, не жизнь, а лишь крик, Крик о пощаде, крик «помоги», Господи, Боже, всех нас спаси, Кто-то качается на самом краю, Кто-то кричит: не могу, не хочу, Боже, прости, мы очнулись от сна, Боже, горит, погибает земля, Мир погружается в вечную тьму, Боже, о Боже, как жить я хочу!» – Майкл, ты где? Ты меня слышишь? – спросил Миша. Но слышно было лишь, как идут куда-то люди, нагружённые другими, не могущими идти, людьми. И скрипел мороз, пробираясь сквозь оконные рамы, и радовался мороз разбитым окнам, и превращался в мурашки, которые бежали по телу. – Зачем тебе Майкл? – спросил я. Мне было не интересно, зачем Мише понадобился Майкл. Просто не хотелось молчания, не хотелось искать глазами того, кто молчал. – Майкл, я тебе хочу вот в чём признаться, – сказал Миша. Миша, как и я, не захотел слушать молчание Майкла. Миша, как и я, верил в то, что человеческие души бессмертны. И продолжил разговор с ним, а не со мной. – Майкл. Знаешь, а я передумал лететь в твою буржуйскую Канаду. Извини. Просто я подумал вот о чём. Я не имею права бросать больную жену. Можешь продолжать молчать. Я знаю, ты хочешь сказать, что она мне больше не жена. Извини, ты не прав. Она всегда мне была женой. Даже когда я скитался по миру и полз с обмороженными ступнями по тундре. Вот это я тебе хотел сказать. Да и без своей России-матушки, эх-хо, я всё-таки не выдержу. Голос Миши отдалялся вместе с теми людьми, которые уносили носилки с его телом. Я провалился в забытьё. А когда очнулся, увидел в серой пелене чёрный силуэт монаха. Он шёл ко мне. Вот он рядом. Он не отстаёт от тех, кто несёт меня, он сказал: – Нашего канадского гостя придавило камнями. Когда его вытащили, он ещё дышал. Перед смертью он исповедался. Он просил всем рассказать, что отравил своего деда, за то, что наследство отписал не ему. Просил, чтобы все молились о нём. Он плакал. Так и умер, в слезах.
Я до сих пор жив. Нас пристроили в каком-то полуподвале. Тусклый свет пробивается из окошек под низким потолком. Иногда к нам приходят христиане. Они раздают хлеб, воду, рассказывают о жизни в послевоенном мире. Среди больных этого импровизированного госпиталя есть мои знакомые. Это майор Семерицын и бомж Миша. Они обычно молчат и молятся. Как и я тоже. Сколько осталось жить, один день или один год, не важно. Важно совсем другое. Теперь я это точно знаю. И когда я вижу в окне солнечный луч, я знаю, что это Бог посылает мне весточку. И жду своего часа. Я убеждён, это будет самый лучший час в моей жизни. И я буду счастлив даже ещё больше, чем во время школьных каникул у бабушки в деревне Крынки, где лодки, камыши, лягушки, деревенское молоко и ночные раки в ледяных родниках...
Купить доступ ко всем публикациям журнала «Новая Литература» за декабрь 2016 года в полном объёме за 197 руб.:
|
Нас уже 30 тысяч. Присоединяйтесь!
Миссия журнала – распространение русского языка через развитие художественной литературы. Литературные конкурсыБиографии исторических знаменитостей и наших влиятельных современников:
Только для статусных персонОтзывы о журнале «Новая Литература»: 03.06.2025 Вы – лучший журнал для меня на сегодняшний момент. 03.06.2025 Ваш труд – редкий пример культурной ответственности и высокого вкуса в современной литературной среде. 20.04.2025 Должна отметить высокий уровень Вашего журнала, в том числе и вступительные статьи редактора. Читаю с удовольствием) 
 |
|||||||||||
| © 2001—2025 журнал «Новая Литература», Эл №ФС77-82520 от 30.12.2021, 18+ Редакция: 📧 newlit@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 Реклама и PR: 📧 pr@newlit.ru. ☎, whatsapp, telegram: +7 992 235 3387 Согласие на обработку персональных данных |
Вакансии | Отзывы | Опубликовать
|
|||||||||||

